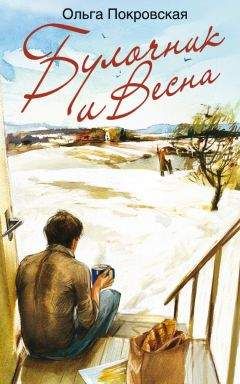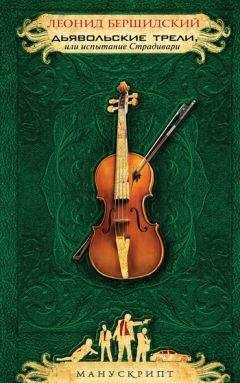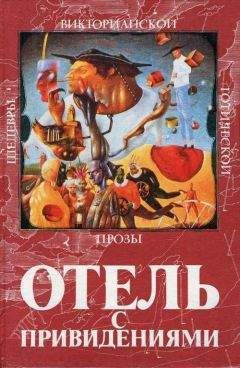Как-то дико я оглянулся на свёрток с деньгами: вот растает снег, земля примет в себя эту бренность и пустит на цветы и колосья.
А потом поспешил за отдаляющимся Ильёй и забыл.
– Знаешь, стыдно, что я Пажкова обманул! Ну с архангелом, – сказал Илья, когда мы зашли на монастырский двор. – Конечно, это чепуха – лик писать по заказу. Он какой проступает – такой уж и пиши, да и потом каноны ведь есть! И всё равно – Михал Глебыч-то ведь надеялся! Для того, может, всё и затевал, чтобы к ангелам прислониться. Хочу ему передать одну вещь, в утешение.
Я молча слушал странную речь Ильи и думал, что, какими бы дикими ни показались мне его идеи, я исполню всё, о чём он попросит.
Пройдя через двор, мы поднялись на крыльцо и вошли. Я с трудом узнал храм – он был чист и прозрачен, как лепесток нарцисса. По свежей его белизне цвели радостные и тихие краски. Святые вышли встретить нас, и так необъяснимо отрадно было их явление, что я почувствовал: мне нужно остановиться и поговорить с ними. Попросить поддержки, чего никогда не делал раньше.
Но Илья не дал мне времени.
Давай скорей, пока наши не пришли! Потом посмотришь! – сказал он и, распахнув дверцу за свечным прилавком, пустил меня внутрь чуланчика. Там, среди уймы хлама – картона, досок, банок, – оказывается, и было припрятано его ко мне «поручение».
– Я сегодня домой поеду, – говорил он, переставляя доски. – Тут ерунда осталась, без меня доделают. А ты отвези Михал Глебычу – вдруг поможет? Вот она! – и, обнаружив нужную картонку, переставил на свет, против двери.
Запахло краской – в точности, как размороженной апрельской землёй. Не окаймлённая, с размытыми краями, засветлела передо мной небесная жизнь нашей деревни. А что же было там, в жизни этой? Да ничего особенного – под яблоней варилось варенье!
Старая Весна (Илья не сказал, что это она, но я догадался), ясноликая, в красном сарафане, помешивала янтарную гущу большой деревянной ложкой, и уже стояла наготове стопочка блюдец. Сладкий дымок варенья смешивался с дымом самовара, а на поляне столпились в ожидании лакомства мальчишки – Тузин и Коля и златовласая девочка на длинных ножках. И Тузик, умудрённый прошедшей смертью, прилёг под яблоней мордой на лапы.
А где обещанный Михал Глебыч? Да вот же он! Окунувшись в цветущую траву, одну ногу подвернув под себя, на полянке возится конопатый пацан, увлечённо крутит в руках детали рассыпанного конструктора. В них угадывается купол аквапарка и вышка подъёмника, стены монастыря, дуги шоссе. Всё это следует соединить наподобие секций детской железной дороги.
Петь, а вот и ты! Ладони упёр в колени и с любопытством заглядываешь Пажкову через плечо. А в углу на чурбачке сидит парень. Он подпёр голову ладонью и глядит на играющих. Он рад и задумчив. У него мои черты. Это я.
Кругами отдаляясь от обетованной поляны, разбегаются холмы и долины, а из дальнего леса беспечно выходит солдат – мой прадед с фотокарточки. Вокруг вечная жизнь, и не нужно быть искусствоведом, чтобы различить её в солнечном свете.
Я отнял взгляд от картона и обескураженно посмотрел на Илью.
– И вот это ты хочешь – Пажкову?
– Ну да! Ты скажи, это ему вместо архангела. И когда отдашь, скажи ещё, чтобы он Лёню не мучил. Вот про Лёню, главное, не забудь!
Я хотел объяснить ему, что хвостатую фауну Пажковской души вряд ли распугаешь с помощью рисунка. Но Илья глядел на меня с таким доверием, что я передумал спорить. Как поспоришь с ним, когда у него – Дух истины!
Обрадовавшись моему молчанию, он быстро обернул картон в какую-то серую, надорванную бумагу, перевязал и вручил мне. Подхватил затем свой рюкзак и шмыгнул в дверцу. Неся предназначенный Пажкову подарок, я вышел следом.
По светлому, в дымчатых столпах лучей пространству храма мы двинулись к выходу, но не успели сойти во двор. На крыльце наш путь пересёк парень с тощей бородкой.
– И куда ж собрался? – проговорил он с наивозможной едкостью.
– Дим, я домой, – сказал Илья. – Вам там осталось-то всего ничего! Ну что вы, без меня не разберётесь?
Я не помню дословно Димину реплику, но в ней он сравнил Илью со многими существами. В том числе с приблудными собаками и с дурачками из интерната, среди которых Илье, по мнению Димы, конечно, и было место.
Я бы с удовольствием размазал его, а Илья даже не нахмурился.
– Слушай, отстань! – сказал он и сбежал с крыльца.
Мы сели в машину, но отъехали не сразу. Никто не гнался за нами. Отныне мы были вполне свободные люди и могли позволить себе промедление.
– Представляешь, Коля на чердаке ноты нашёл! Моего прадеда, – сказал я, расстёгивая молнию сумки, и протянул Илье выцветшего, но всё ещё внятного Моцарта.
Осторожно, как птицу, он взял тетрадь и невесомо перелистнул. Вгляделся в карандашные пометки и вдруг улыбнулся – так, словно найденные Колей ноты были особенной благой вестью, страховым полисом, гарантирующим нам бессмертие в случае смерти.
– Костя, а ты-то сам что решил? Что будешь делать?
Я рассказал ему про шутку Пажкова с булочной. В принципе, можно остаться, работать дальше. Но почему-то уже не могу. Поеду в Москву, займусь по-человечески Лизкой, родителями. Правда, пока ещё не придумал как.
Илья задумался, сверяя полученную информацию со своим внутренним чувством, и сказал:
– Да! Это хорошо. И знаешь что – вы приезжайте с Лизкой к нам на Пасху! У нас Крестный ход такой красивый! Дай мне честное слово, что приедете! И Петю с собой возьмите!
Мне показалось, что он хочет обозначить на бескрайнем полотне жизни чёткую координату встречи. Нечто, что будет скреплять нашу вынужденную разобщённость.
– Хорошо, – обещал я, и как-то вдруг счастливо накренился мой рассудок. Я понял, что дал ему слово на все времена. Даже когда нас не будет на земле – «координата» останется. Не знаю, как другие, а мы найдёмся!
А потом мы поехали и за каких-нибудь пятнадцать минут домчали до станции. Как я понял, у Ильи действительно не было никаких планов на эту весну. Он весь был открыт неизвестной жизни.
Бросив машину на стоянке вокзала, я пошёл к центральной площади – в последний раз взглянуть на приютивший нашу булочную городок. В лоб мне било разливное солнце марта. Прищурившись, я смотрел на крашенные вразнобой дома, на массивные лавочки и дурацкие авангардные скульптуры. Вот и всё. У меня больше не было дела в этих краях. Я дошёл до перекрёстка и на завалявшиеся по карманам монеты купил в киоске мороженое.
Совсем рядом, у пешеходного перехода, из-под земли валил пар. Жидким золотом горели наплескавшиеся по глине лужи. Рабочие копошились в траншее, и я, навеки праздный, с мороженым и сигаретой, замедлил шаг, чтобы поглазеть на их труд. Люди всех возрастов и мастей шли со мной в одном направлении, а также навстречу и поперёк. Пока я двигался к перекрёстку, подуло горячим чёрным – у продуктового магазина из машины с лейблом хлебзавода выгружали пластмассовые корзины. Я обрадовался этому запаху – он означал, что в мире по-прежнему есть хлеб.
А затем, без особого участия головы, одной волей ног, пересёк дорогу и двинулся в сторону переулка, где жила Мотя. Пожалуй, это было последнее место, которое мне хотелось навестить, прежде чем навсегда распрощаться с городком, приютившим наше маленькое предприятие.
У Мотиного забора ржавый куст шиповника поймал меня колючкой. На ветвях виднелась прошлогодняя листва, берёзовые семена в паутине и снег, зачернённый пеплом города. Небо звенело, ветер с натугой, рывками, подвигал к нам весну.
По пробкам я добрался в Москву и, бросив машину у метро, с картоном под мышкой пошёл прямиком в пажковский офис. Может быть, кому-то в этом видится сумасшествие, но я был рад, что мне выпала честь доставить подарок врагу.
Охрана в зеркально-чёрном холле здания встретила меня неприветливо. За отсутствием пропуска мне пришлось долго растолковывать по телефону секретарю, что я привёз Пажкову рисунок от Ильи. Наконец меня пропустили.
Михал Глебыч был на месте. Вчерашний праздник утомил его. Под глазами темнели мешки, но сами глазки смотрели буравчато. Ему было любопытно, с чем я пришёл, и всё же он проявил терпение. Даже не покосившись на предмет у меня в руках, он начал с трогательного вопроса:
– Ну, как Петька-то? Не захворал?
Я поставил свёрток с картиной на кресло, прислонив к спинке, и стал ждать, когда Пажков займётся подарком. Но он не отступал.
– Не пойму – играет, как бог, а такие переживания! – воскликнул он и, подойдя к инструменту, который успели уже вернуть в кабинет, приподнял крышку. – У меня вообще-то как основная шла виолончель, – сказал он, присаживаясь на банкетку. – Но и фортепиано тоже было. Фоно у всех, а как же! – и, подтянув рукава рубашки, шустро заиграл какой-то этюд. Правда, скоро сбился и бросил.
– Ну и чего? – сказал он, оборачиваясь ко мне. – Сильно я себя унизил? Петьке скажи: мол, Михал Глебыч гостю песенку сыграл – и ничего! Не умер небось!