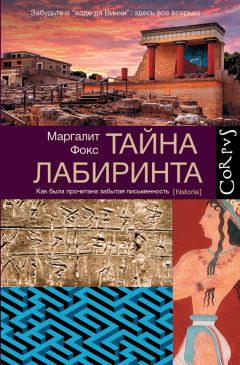– Каждый хочет горшок по своей заднице… – продолжила она свою мысль, но сигнализация заработала вновь. Это было как музыка.
– Да что ж такое! – подпрыгнула она и кинулась к окну.
Машина была на месте и сигналила всеми огнями. С задумчивым видом, сунув руки в карманы, вокруг нее неспешно прохаживался Гена. Тетка нажала кнопку пульта. Машина замолчала. Гена лениво отвел ногу и треснул ботинком по колесу. Иномарка завизжала, как от боли.
Тетка принялась отпирать окно.
– Эй, ты! – крикнула она. – Уйди от машины!
Гена поднял голову, облокотился о капот. И улыбнулся нам. Впервые я видел Генину улыбку. А может, так улыбался Кулев.
– Уйди! Милицию позову!
– Так я ж ничего не делаю, – спокойно сказал Гена.
– Уйди, гад!
– Счас я за гада милицию вызову, – пригрозил Гена.
– Тебе чего, гад, делать нечего?
– Не надо путать божий дар с яичницей, – парировал он и опять пнул колесо.
– Это кто? – задохнулась она.
– Это местный, – подсказал я сзади. – Его только что из тюрьмы выпустили. Или из психушки. Я не разобрался.
– Как из психушки?
– Он такой. Ему ничего не будет.
Хозяйка схватила сумку и сломя голову покатилась вниз.
Я закрыл окно. Прихватил какие-то вещи. Осмотрелся. Потом запер входную дверь на три оборота и ушел. По-видимому, навсегда.
Если ты пнешь в сердцах род человеческий, он пнет тебя дважды, четырежды, сотни, тысячи раз. Он будет топтать тебя, пока ты не сдохнешь. Он смешает твои останки с пылью. А пыль разнесет на своих ступнях по всей земле. Он будет плевать на нее. Замесит в грязь. И в лучшем случае сделает из нее какой-нибудь глиняный нужник.
Это как правила игры, в которую мне не играть. Но исполнять их, считается, я обязан.
Все шло так, как должно было быть. Моя персона никого особенно не занимала. Не занимала она и меня. Выброшенный вдруг, случайно, я больше не интересовался этим миром, и даже то, что нарождалось во мне самом медленно и неуклонно, подобно далекой волне, не вызывало до поры у меня никакого любопытства. Это не смелость, просто такое состояние.
Я смотрел на лица прохожих, такие разные лица, добрые, озабоченные, спокойные, веселые. Равнодушные. Но в них ничего не зрело . Вернее, этого, разумеется, я знать не мог, но в них не зрело ровным счетом ничего, что имело хотя бы косвенное отношение ко мне. Я больше не был одним из них. Цепь не лопнула, голуби не вспорхнули. Странно, как быстро меня забыли. А вот во мне зрело нечто, отдаленно напоминающее слово очищение . Или зыбкое представление об очищении . Может, в самом трусливом, может, в самом печальном своем виде. Не знаю.
И все же…
В момент, когда меня начало одолевать смутное волнение – не за будущее свое, а за рассудок, – появился Никодим. Человек с таким вычурным именем и выглядел оригинально. Старик не старик, а довольно бодренький такой тип в приталенной рубашке с красными попугаями, распираемой твердым, запущенным пузом, так что спереди край рубашки далеко отставал от ширинки, зато сзади туго обтягивал тощий зад, и в светлой шляпе, из-под которой в разные стороны вились жидкие сивые кудри. Я сидел на бульваре с бутылкой пива. Никодим спешил мимо нетвердой походкой старого алкоголика, вскачку – в его представлении он, видимо, бежал. Пройдя несколько метров, он встал и повернулся ко мне.
– А я тебя знаю, – сказал он.
Я улыбнулся и пожал плечами.
– Слушай, друг, дай-ка оставлю я это у тебя. – И он сунул мне свернутый целлофановый пакет. – За мной погоня.
Не успел я слова сказать, его след простыл. Я просидел еще с полчаса – никто, кроме женщины с коляской, в направлении беглеца не проследовал. Включив воображение, можно было подумать, что он спасается от алиментов, но, впрочем, это выглядело уж слишком неправдоподобно.
Никодим оказался соседом Раисы, правда, я так и не понял, где же он жил. Поздно вечером в дверь постучали – не позвонили, а именно постучали. Раисы не было дома. Я открыл дверь. Передо мной во всей своей красе стоял владелец свертка. Из кармана выглядывало горлышко бутылки. Я взял с тумбочки пакет и молча протянул его незваному гостю.
– У тебя черный хлеб есть? – спросил он.
– Есть.
– Отрежь два куска. Это сало.
– И что?
– Будем есть.
– Что ж, за салом была погоня? – полюбопытствовал я.
– Не, то старые терки. У цыгана, как говорится, коня увел. Там дел на миллион, только не задалось чего-то. Не на того поставили. Меня нюх никогда не подводил, и на тебе! А сало так, драпать мешало. Давай его жрать. За знакомство.
– Ну, давай.
– А ты что ж это, так в сверток и не заглянул?
– Нет.
– Чудак! А если бомба?
Мы натрескались сала с водкой на ночь, и он ушел, взяв с меня слово, что дня через два мы провернем одно выгодное дельце. О каком дельце болела его голова, мне по сей день неведомо.
Никодима одолевали жгучие страсти. Его постоянно кто-то преследовал, он все время скрывался, но мне не довелось увидеть ни одного врага – только много слышал про них от него самого. Он был одержим планами быстрого обогащения, большинство из которых относилось к разного рода тотализаторам. Причем, как он уверял, зарабатывал он не столько на ставках, сколько на тонком прогнозировании и, как я понимаю, торговле этими своими прогнозами, если кому такое добро было надобно. Судя по всему, больших доходов это занятие ему пока не приносило. Хотя телефон и звонил иногда, и разговоры велись заговорщически.
Он появлялся всегда неожиданно, не всегда вовремя и пропадал надолго.
Он был балагур.
Я не сказал Раисе, что потерял жилье. Не сказал по двум причинам. Во-первых, это обстоятельство не привносило ничего свежего в наши с ней отношения, а его обнародование могло привести к непредсказуемым последствиям. А во-вторых, не хотелось задумываться о будущем, которое исчезало, как высыхающий источник в засуху, прямо на глазах. Из последних сил старался я не задумываться. Окажись на улице, куда бы я подался? Как бы то ни было, но я уже начинал понимать того таджика. Во всяком случае, время от времени мне приходилось грузить ящики в продуктовом магазине и таскать диваны в мебельном. За это платили сущие копейки благодаря приехавшим на заработки южанам, готовым жить впроголодь, тесно прижимаясь друг к другу.
– Почему бы тебе не пойти работать? – спрашивала Раиса.
– Почему бы мне не перестать жить?
– Я могу устроить тебя барменом.
– Это такие, которые в белых френчах?
– Это официанты, болван.
– Я разве что-нибудь у тебя прошу?
Как-то темной ночью по приевшейся уже традиции в обнимку с нею заявился очередной кавалер, возможно охранник, в камуфляже и тельняшке. Оба были крепко навеселе. Он то и дело поводил плечами, словно в любую секунду готовился дать отпор. Я вышел к ним, как старый пердун-муженек, сонный, в халате, с голыми ногами. Охранник нахмурился:
– Мужэ-эк, дай кисть, мана.
Он пожал мне руку чуть ли не с благодарностью, пока Раиса хихикала в прихожей, с такой, знаете, мужской растроганностью. Его поразила высота наших с ней отношений.
– Ну ты, мужэ-эк, даешь, мана. Райку все уважают. Молоток ты, мужэ-эк. Нам, мужэ-эк, еще побазарить надо будет.
Потом они удалились в спальню, а я, как это бывало не раз, остался предоставленный собственной решимости убираться восвояси либо закрыть на все глаза и ложиться спать на диване. Пока эта дилемма колотила мне в темечко, дверь в спальню отворилась и на пороге появился Райкин гость в чем мать родила, но в тельняшке.
– Слушай сюда, мужэ-эк. Будь боевым товарищем, дайка пивка в холодильнике. А то горло высохло, мана, на хрен.
И это «мужэ-эк», и это «мана», и эта свисающая из-под тельника гроздь гениталий – все это ни с того ни с сего произвело на меня ошеломительное впечатление. Я сказал: «Сичас» – и двинул в кухню. Гость зевнул и скрылся в спальне. Я взял в холодильнике бутылку «Жигулевского» и пошел к ним. Они уже расположились под одеялом, причем Раиса, похоже, задремала.
– Принес? – спросил охранник. – Ставь там, на табурэте.
– Ага, – кивнул я, шагнул к ним и с маху хватил бутылкой о спинку кровати, держа ее за горлышко.
Оба подскочили на месте. Что-то во мне полыхнуло. И в ту же секунду я распластался на Райкином кавалере, прижав к его горлу зажатый в трясущейся руке криво торчащий осколок стекла.
– Пива нет, мужэ-эк, кончилось, – прошипел я. – Может, кровью прополоскать, мана?
Когда я отбросил окровавленное горлышко, охранника уже не было. Белая, как молоко, Раиса подметала осколки и то и дело заливалась нервным смехом.
– Тебя ж посадят, дурака, если он стукнет. Тебя ж, дурака, и посадят.
Да, сонно подумал я, это где-то рядом – сума, тюрьма. Это связано.
Райка села на кровать рядом, обняла меня за плечи, поцеловала, прижалась.
– Последняя бутылка пива была, – тихо сказала она и заплакала.
А охранник не стукнул.