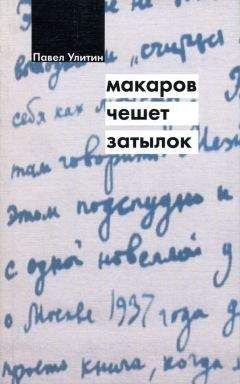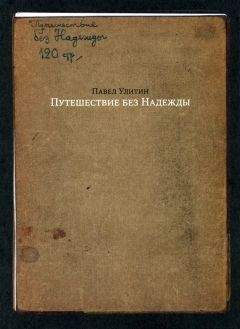Абстрактный разговор получился. В начале жизни помню школу я. Ни одна вещь не запала, не развилась, не откликнулась. Как-то иначе. Не из того теста. Заморочили ему голову теоретики. Ортега-и-Гассет – блестящий стилист, а я до сих пор изучал стилистику по Налитухину. Конечно, можно и по Налитухину, но лучше по Ортега-и-Гассету. В немецком переводе? Перевод хороший, а может он и сам писал по-немецки. Его интересует как раз та стилистика, которая сквозит во всех переводах.
А ее интересует как раз то, что остается в пределах одного языка. Они же говорят о разных вещах, хотя и пользуются одними и теми же словами. ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ЗАБОР. Ритмы катания на коньках у этого конькобежца на этом озере были совсем иные в тот год. Как зеленый карандаш. Мелькнул, блеснул и улетел. Эстетика тонкого переплета. Конверты что ли? Хоть какой-нибудь шаг вперед, хоть какой. От пачек к переплету без читабельного текста, да, но хоть обзорно, хоть в самом общей виде. Клейка как ритуал не состоялась. Карандаш, не пропущенный через машинку. Да. Да. Но это еще не дает право на бессмертие. На внимание тех, которые придут потом: нах-вельт![66] Это еще ничего не значит. Устаревает только информация. Не только. Но и метод. Но и лексика. Но и заботы. Но и ритуал. И дело не в абстрактности. А в том, что нет конкретных зацепок в анализе новых впечатлений, которые, конечно, связаны со старыми. А вот этого и нет. Можно подумать, жизнь началось с приходом бородача в шотландской юбке. Рассказ о вечере в Армянском переулке – тоже нелитературные впечатления. А старый текст на новой машинке – на общих основаниях с методом Эрли Стенли Гарднера. Мне ритмы приснились, конкретные движения и повороты, но не ощущение полета, хотя я смутно помню свои чувства по поводу приснившихся ощущений.
Самый далекий угол – вовсе не детство. В самом далеком углу пылились картины без слов, которые мы выбросили, чтобы они нам не портили жизнь. Эти страницы жутко бесперспективны. Твой ритуал: ты его создал, ты и поломал. СИНИЕ чернила авторучки на немецкой бумаге чем-то другим, что отошло, не поднять, не приблизить. Казалось просто – поставить «1958» или «58-й год» или что-то в этом роде и так крыть до истощения уже зафиксированных слов. Ан нет. Ан нет. Наша тележка с яблоками накренилась, и яблоки посыпались на асфальт или на землю. Лодка застряла на мели. На мелком месте песок или ил или просто грязь и трава. Там хорошо про солнце как бы пропекающее до костей, когда спину подставляешь солнечным лучам. На одной этой сцене можно ехать. Застрелившийся инженер и инженер, сошедший с ума, и инженер, улетающий в Крым с женой в отпуск – суяровские персонажи, их сага, их семейная хроника, и папа – летописец и неудачный романист. Ты хотел добрых чувств. Смотри, какая бабища! Она одела мои брюки, а я одел старую бабушкину юбку, и мы демонстрировали маскарад. В медвежьем углу старый энциклопедический словарь – по фамилии ДедерЭр или ДЭдерер – благополучное немецкое семейство почему-то под «Даму с собачкой». Хотя ничего общего. Только арийская кровь и просвечивающие уши. Немка себя показала. Начальник НКВД цитировал «Навьи чары» или «Санина» или «КАК ОН НАЗЫВАЕТСЯ»? «Мелкий бес». Потом пошли бутырские эмоции. А Валя Брехова читала потом именно эти книги именно из этой библиотеки. Где ваша сладость? Гораздо интересней заполнить лист бумаги словами, взятыми из воздуха, чем словами взятыми с бумаги. Чем это объяснить, не знаю. Потерял вкус. Не то настроение. Не тот накал.
А, казалось, тут достаточен и самый низкий тонус. И просто общая тетрадь.
JUXTAPOSITION. Where we are all mixed up is in our juxtapositions. It’s all nonsense, I tell you. People talk about a bad colour. Every colour is beautiful in its right juxtaposition. Do you remember what Corot said? He said Nature was too green and too badly lighted. It’s a queer rum thing, why people ever get married at all. You simply can’t get level with it – the most unlikely, most outrageous combinations. The more outrageous the more likely they are to be a success. What you want to seek in common is not intellectual ambitions and tastes, it’s recreations. Would you say that he and his wife have recreations in common? Yes. What are they? Bach. Queer fish, people are.
But you don’t practise what you preach. My case is exceptional. So is everybody’s. The very case. The Nomenclature is changed, of course.
Plötzlich im letzten Sommer: it amounts to the same thing. Tout sein de femme est un asyle. Il s’amusait à faire oxciller ses seins comme des cloches. Il prit les seins charmants et lourds de Constance, un dans chaque main, et les pressa contre lui frénétiquement, immobile et fremissant dans la plui. But the picture from a German film «Zolnierz i bohater». But it amounts to the same thing.
Jeder stirbt für sich allein[67].
Чего там думать, когда и так давно все ясно? Счастливые люди – могут думать. Нам некогда думать, нам надо бежать на работу. Мы живем бездумно. Мысли и думы композитора о русской живописи лежат на приемнике: это самое видное и почетное место. Ритмика, ритмы, в других ритмах, не о тех ритмах идет речь. Ясно вспомнил легкость старого полета. Сколько там было событий, о которых тоже некому рассказать. Болван пытался активизировать чужую лексику. Его там просветили. Интеллектуализация эмоций и рационализация иррационального: сапоги в смятку, но разговор идет бесконечный. И толку чуть. Что-то пробивается на поверхность, но настолько неуловимо, что говорить не о чем. Возвратился бы к Федерико Феллини, может там бы что. А то Абрам Терц – это как беседы об изобразительном искусстве с историком искусств. Фщ-щ-щ! Поехало головокружение от магического слова. Много ты выразишь этим междометием. Когда начинается головокружение при чтении «Колокола» или «А за это время»? Графоманы анализировали гололедицу при помощи музыкальных терминов и добивались странного контакта через бытовую деталь. Что-то ни слова о пропасти во ржи. Не было ведь более сильного эстетического впечатления, не было же! Странная штука. Это не ориентир. Это пик. Это случайная удача, которая бывает один раз в 100 лет. Мне никогда так не написать. Так вы же это написали! Да, но я не знаю, как это у меня получилось. Да, но я не могу этого повторить на другом материале. Если даже все так и происходило, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Смутные параллели не пошли дальше смутных впечатлений, а туманные слова ничего не давали, кроме явного неудовлетворения.
Путник, когда ты придешь в Спарту, спартанцы устроят афинскую ночь. Но ты не думай, путник, спартанцы тебя не забыли, спартанцы ведут спартанский образ жизни, а для равновесия – афинские ночи. Жители Лаконики выражались лаконично, а для равновесия много болтали и не замечали чужого многословия. Жители Лаконики ценили лаконичность, но выражались страшно многословно. Мысль по необходимости должна пройти эту стадию, а собеседник или машинка только способствуют. Ветеран встретился с неофитом, об этом нужно было спросить не ветерана, а неофита. Зямка Булкинд работал в Хлебниково, жил на улице Сайкина, а писал под псевдонимом 3. Ситников. Но, как потом оказалось, он сластена, любит шоколад и вообще кондитерские изделия. Финансовая мысль: ух ты! Там написано «нечто овечье», а я прочел «вечно овечье», и мне очень понравилось. Нужно было как можно больше спрашивать, а я не воздержался от категоричности возражений. Из этого ящика вылетали слова, я их ловил довольно лениво, от них ничего не оставалось. Но громкость звука и неожиданность ритма иногда приносили пользу. Зато здесь нет трещин. Это, конечно, хорошо. Чуть-чуть от Большого Ларусса. Меньше всего Брокгауза. Когда мы получим следующую? Начало хорошее, посмотреть, что дальше будет, интересно. В сказке отмечено 9 страниц. Объяснение в любви забылось. Почему такое чувство, как будто я обокрал себя? А не надо ставить сверхзадач. Рассказ интересный. Потому что он – сверхрежиссер, а она – сверхактриса. А воспитанием ребенка занимается бабушка. Расскажите, как Солженицын читал Абрама Терца. Как Абрам Терц читал Конст. Федина. Так же. Абрам Кузнецов стал Андреем, а Андрей стал Абрамом. Устранение нервирующих влияний: а чего я буду это, когда меня так раздражает?
С таким вкусом описываются деньги в разных видах, что сразу видно: писал нищий, у которого никогда не было много денег. Не было своих, но было много чужих, что и не ценилось. Оба пишут. Один присылает все время что-нибудь. Другой пошел по стопам Бенедикта Лившица. Разные мы с ним люди. Человек не нашего круга. Не для тебя мальчик. Мальчик не для тебя. Чисто литературные задачи никого не волнуют. Жалко, что он устранился от Киплинга. Польские кинематографические журналы уж больше не печатают его портретов. Впечатление он производил на пап и на мам, которые говорили: видишь, что они делают! Нет уж, ты лучше занимайся французской филологией. Доведи одно дело до конца. Когда потребовались бытовые детали, а из них вдруг посыпались советы материнской любви, я подумал: хватит! Смерти старика никто не заметил. Я до сих пор не уверен: он умер или еще кто. Я сказал самое важное: давайте еще! А от него главного не услышал: последние стихи мне больше всех нравятся. Последнее, по-моему, – самое лучшее. У безрассудной похвалы есть свои традиции, но это же, вместе с тем, и есть самый короткий путь в сердце. Важно хорошо кончить. А поражение – тоже не всегда полная победа. Сам-то он иначе смотрит и иначе ощущает. Чашу Отче мимо не пронес. Разговор с Понтием Пилатом был другой. Цицерон! Никто не вспомнил, а он подумал.