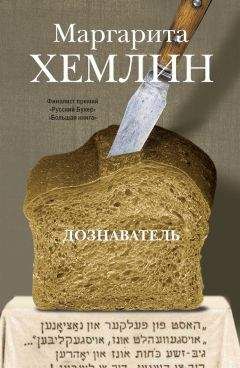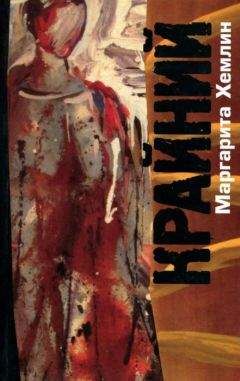На кровати в кубле свернулся приблудный хлопец. Конечно, Марик.
Я позвал:
– Марик! Вставай! Ведьма убежала! А хочешь, так лежи. Я спать пойду.
Зевая напоказ, я размеренно двинулся в спальню. Оттуда из-за занавески на двери наблюдал за местностью. Кубло не ворухнулось.
Я простоял минут десять. Ничего.
Тихонько крикнул:
– Пожар!
Ни вдоха, ни выдоха, ни вздоха – в любую сторону.
Не таясь прошел в сени, громко стукнул дверью, повозился с ведром, что-то нарочно уронил, ругнулся как следует.
Кругами походил по комнате, посвистел некоторые мотивы для веселья.
Налил себе остывшего чая, хлюпал водой, чавкал хлебом с салом.
Ничего.
С кровати мне отвечала только тишина.
Когда я улегся на диван, до моих уставших от напряжения ушей донеслось вроде шелеста:
– Ма-рик. Ш-ш-шкловс-кий. Я. Ес-с-сть. Ма-рик. Ш-ш-шкловс-кий.
Потом я услышал босые ноги. Потом до меня приплыло облако страшной вони.
Хлопец запутался в занавеске, никак не мог обнаружить дверь в спальню. А она ж была открыта.
– Пус-с-сти до с-с-себя, мамоч-ч-чка, пус-с-сти…
Облако приближалось и накрыло меня всего – до обморока. Я лежал, а Марик обнимал меня и голосил с слезами и соплями. Лез в мое лицо, гладил, как делают бабы, когда в гробу кого-то сильно провожают на вечный покой.
– Ой, мамочка моя, пусти меня!.. Ой, мне больно! Ой, живот у меня болит!..
Я оттолкнул облако вместе с его вонью, с его слюнями и другим сопровождением.
Толкал от себя, как камень толкают. Только камень – ни с места. Руки мои пихали мертвый воздух.
Я вывернулся, побежал в комнату, каганец там еще теплел…
Крикнул строго оттуда в направлении Марика:
– Мама тебе говорит: спать! Ничего у тебя не болит! Ты сытый! Нажрался, вот и кажется! Спи! Мама знает!
А сам боялся, что сейчас Марик займет и завоняет диван, и тогда я окончательно останусь без места для здорового сна.
Добавил приказом:
– Немедленно дуй сюда, тут твое место! Тут ложись!
Марик послушался. И рукой так ловко прикрывал живот, вроде раньше, только-только что, все было одно притворство бреда. И ничего другого…
Силы оставили меня в покое. В комнате бухнулся на диван, холодная спинка холодила. Толстая кожа поблескивала в темноте мерцанием сна.
Я подумал, что если б человеку такую кожу.
И забылся неровным сном.
В калитку загрюкали.
Следом зазвучал отчаянный голос Доры:
– Открывай сию минуту! Хуже будет!
Баба застала меня без сил. Терпеть ее возгласы на всю улицу мне было тяжело.
Пустил Дору.
Она уверенно сказала:
– Прогнал малого.
– Ага… Аж дрыном гнал… Дрыхнет! В моей комнате. На моей, между прочим, чистой постели. Теперь Шкловского нету, за грязным бельем Горпина придет – а мне ей заплатить нечем. А после вашего малого стирай – не отстираешь. Всю мою душу мне вымотал…
Дора пропустила мимо. Вдохнула носом. Не выдохнула тут же, а как бы прожевала вонючий воздух.
– Да… Хворый хлопчик. Посмотрю еще раз.
Открывать Доре я ходил с каганцом. Она тот каганец и взяла для надежного опознания.
Я подглядывал в щелку занавески.
Дора водила каганцом над лицом спящего, шептала что-то, щупала кудлатые волосы. Обводила пальцами кругом лица, обрисовывала вроде. И по носу тоже водила. И по закрытым глазам водила. И по бровям, и по губам.
Мне надоело наблюдать такое бабство.
Я позвал:
– Дора Соломоновна, хватит! Как ведьма, точно. Еще каганец уроните, пожар наделаете.
Она не слушала и не слышала. Бормотала и бормотала.
Вышла, когда я уже самовар наставил.
Пробудился большой аппетит. Хватал с стола без разбора.
Дора села за стол по-хозяйски.
Налила себе чай.
– Извините, Дора Соломоновна, сахара нема.
Дора ответила невпопад:
– С чего ты взял, что тот хлопец – Марик?
– А кто ж? И по голосу, и вообще. Что я, Марика не узнаю? Мы с ним с всей силы родные были. Он у нас дома пасся без продышки. Шкловский за ним не смотрел никогда. Жил хлопец на полном произволе. Вы б видели, как его Перчик от себя гнал, когда Марик за ним увязывался в Киев ехать… Вроде собачки бежит до Киевского шляха, а Перец на подводе рукой так – назад – делает: отстань! Ни разу его с собой не взял. Марик просился по-всякому. Нет, не взял. И гостинцев не привозил. А Марик, между прочим, папу любил. Вслух не признавался, а любил. Перед хлопцами хвастался. Я никому не делился. Про себя тихонько знал, что не возил его Перец в Киев, а хлопцам с улицы не выдавал товарища. Вот как мы дружили. А вы говорите…
Дора уселась на стуле плотней:
– Ты где жил?
– В Остре. Всегда. Честно.
– Значит, в Остре Перчик засел. Рувима Либина, доктора, откуда знаешь? Я сама его по Киеву помню.
– Либин у нас в Остре всех на свете лечил. И деда моего лечил. – Про дальнейшее промолчал.
– Сколько у тебя возраст?
– Пятнадцать исполнилось.
– А хлопчику тому? – Дора кивнула в сторону Марика.
– И ему столько же.
– Не может быть. Ему лет тринадцать. Когда они с Перецом в Остре появились?
– Точно не помню.
– До Германской?
– А я считал, Германская – не Германская? В школу ходил. В класс Марик явился. С портфелем большущим. Ему Перец для форса дал. И не для него, для Марика то есть, а для собственного своего удовольствия – вот я какой, сыну малолетнему могу дорогую вещь на понос выдать. А портфельчик старенький. Без защебки. Мотылялась только нахлестка. Там дырки от защебки остались – так веревочкой подвязывалось в крайнем случае. Но хороший портфель. Крепкий. С железячной прокладкой на загибе – знаете, где перекидывается крышка. С заклепочками блестящими. Мы на том портфеле каждую зиму с горы ездили. На спор – скорей всех. Старшие хлопцы пробовали забрать, так Марик зубами отбивался, а не разрешил. При моей помощи, ясно. А вы говорите…
– Значит, по годам он тебе должен быть ровесник, ну, год в любую сторону разница. Ладно… Ты хоть и сметливый, но сильно глуповатый. Не обижайся.
Дора запустила вежливый тон, вот-вот вроде готовилась сюсюкать.
И начала – но другое.
Хлопнула ладошкой по столу. И тут же перед моим носом закрутила указательным пальцем.
– Молчать! Слушать меня!
Я помимо воли замер.
Дора крутила пальцем уже перед самыми моими глазами:
– Не знаю, что это за хлопец, может, он и Марик. Но не сын Переца. Сын Переца есть мой внук. А это не мой. Вот с этого начнем. Теперь слушай дальше.
Без ее пальца возле моего носа стало легче дышать, но дышать не хотелось. Мог, а не хотел. Не дышал, а слушал. Потому что если б вдохнул, убил бы старуху на ее месте.
Вся моя жизнь с планами рушилась.
Племянница Доры Хася вышла замуж за Переца вопреки воле родителей. Перец являлся бедным, а они не бедные. И дом, и пара коников для извоза у Дориного брата, отца Хаси, были. И уважение было. А Перец всю свою непутящую жизнь представал в не сильно хорошем свете.
Так, пребывая в распущенности, он отрекся от родителей и стал гулять на все стороны. Потом немножко образумился и стал на путь борьбы за светлое будущее. На такой почве познакомился с Дорой.
Дора, хоть и старше Переца, ответила на его ухаживания. Десять лет разницы в возрасте ее не охладили. А его как раз и заморозили.
На общем фоне борьбы и демонстраций, а также в целях окончательного развенчания сказок про единство еврейского народа, без различия внутренних богатства и бедности, Дора покинула дом брата, где проживала в довольстве после смерти общих их с братом родителей. И с того дня заверяла всех интересующихся, что живет по конспиративным углам.
Или так, или сяк, Дора с головой глубоко ушла в революционный путь.
Не без намека на свою любовь к Перецу, Дора заявила этому самому Перецу, что теперь они ровня, он голодранец и она тоже, и классовый подход им теперь очень наглядно станет понятен, и они его до всех будут доводить своим собственным совместным примером.
К тому же наметился младенец на руках – как результат отношений. Младенец, по мысли Доры, приурочивался к лету, когда и картошка, и вишни, и зелень какая-никакая. И молоко у коров особенно целебное – она, если что, будет дополнять личное.
А время ж шло. Прекрасное, боевое время.
Товарищи наряду с Перецом просвещали разнообразными объяснениями людей и пропагандировали.
Однако в один день их всех замели и посадили на цугундер.
И вот Дора пришла к тюрьме на Лукьяновке и в высокое окошко начала бесстрашно кричать про младенца к лету.
В окошко через решетку никто не высунулся и привета Доре не выдал.
На дороге домой Дора встретила свою племянницу Хасю.
А Хася, между прочим, направлялась в Лукьяновку с передачей для Переца. Тетку она не встречала уже месяца три и выделила взглядом наметившийся под легким пальтишком живот и общую утолщенность тела.