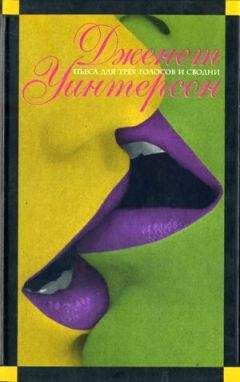Каким образом, плавая в грудах книг по специальности, с послезавтрашним экзаменом по петрографии на загривке, посреди читального зала, оказался рядом с незнакомым филологом, читающим дневники Льва Толстого?
Когда он вышел поесть, наугад раскрыв страницу, читаю, сижу, как пригвожденный.
«Ночь чудо… В душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорвано и светло. Хоть умереть. Боже мой. Что я? Где я? Куда я?»
«Скоро ночь вечная». (Ему двадцать девять лет)… «Мне всё кажется, что я скоро умру. Лень писать с подробностями. Хотелось бы всё писать огненными чертами…»
«Что нам делать? Что нам делать, Соня? Она смеется…»
«Я так боюсь умереть. Счастье такое, какое, мне кажется, невозможно…»
* * *
Зима.
Шуршащие вороха снега, тающий ворс, леденящая белизна ваты, пресность всего мира, горы накрахмаленного белья, лиловатая по краям пена над гигантской его лоханью, – идет великая стирка. Свежестью, чистотой напитываются деревья, земля, глаза, мысли, поступки, небо.
Сама ночь подобна леднику. На студеном холоде поставлены звёзды, чистейшие горы мглы, синей и свежей. И когда наши губы соприкасаются на этом обжигающем морозе, – сила, горечь, пылающая плоть и чистота любви достигает всей гулко звенящей огромности зимы. И в закоулках ее высокого, хрустально выстуженного помещения корабли, вмёрзшие в чистейшие эти льды, вслушиваются в наше дыхание, ловят скрип наших подошв, хруст деревьев.
Заламывая ветки, трещит суставами зима.
Что нам делать? Что нам делать, Лена? Что нам делать, Нина? Смеются.
Потому ли зима для меня – священнодействие?
Никогда так не сильна, глубинно тягостна, – все жилы вытягивает, – тоска по кораблям, вмёрзшим в лёд, по губам, столько раз касавшимся моих, по той неизбывной полноте дыхания мира, который пылал ледяной купелью, спиртово-снежным пламенем вокруг нас.
Окунувшись в купель, – носить каждое ощущение, замирание, тишину, весь избыток бытия всегда с собой. Надо оказаться на высоте доверия, которым одарила тебя тайная сила жизни, даже если потом повод, и тропа, и любимые руки изменили, ушли.
Ледяной восторг, мгновенно обдающий, крепнет, давит изнутри наледью, стоит лишь подумать о ней, увидеть издали. Боюсь этого куска льда, как бы внутри всё не порезал. Сдерживаюсь, стараюсь не шевельнуть память. Так бывает, когда едешь в душном, битком набитом троллейбусе. Тепло одетый, стоишь ли, сидишь, боишься пошевельнуться: тотчас окатит потом, обильным, из всех пор.
Это как наваждение. Каждую ночь, где-то, в двенадцатом часу, вскакиваю со сна. Выхожу из общежития, прячусь за деревом, смотрю на третий этаж. В окне Нины горит свет.
* * *
Дворник ломом скалывает наледь с парадного крыльца университета. Я вижу издалека – стоят на почтительном расстоянии друг от друга – Лена и Юра Царёв, о чём-то говорят. Его отзывают. Троллейбус на миг заслоняет их от меня. Пересекаю улицу. Она видит меня, улыбается. Дворник ловко ударяет ломом, трещина змеится, убегает, их уже много – трещин. Меня мутит от сравнения, которое напрашивается, встревает осколком льда.
Она держит меня за руку. Улыбаюсь, шучу, стараюсь уйти от темного знания, которое где-то глубоко во мне, к горчайшему моему сожалению, кажется, безошибочно.
Стараюсь себя убедить, что всё это выдумка воспаленного воображения.
– Как сдаёшь? – никогда раньше её это не интересовало.
– Да так.
– Странно, правда, у меня первая сессия, у тебя – последняя.
Молчим. Стоим. Дворник во всю разошелся.
– Тебе обязательно на консультацию? Пойдем, погуляем.
– Ты откуда знаешь про консультацию?
– Юра сказал, ну, Царёв. Не делай удивленных глаз, я давно его знаю. Кстати, ты ведь знаком с той блондинкой, а от меня скрыл.
– Следишь?
– И зовут ее – Нина.
– Ниночка, Ниночка, ты моя блондиночка.
– Это ты мне за Царёва? – на глазах у неё слёзы. Не притворяется ли?
– Рёва за Царёва.
– Чего это ты сегодня всё норовишь в рифму?
Это, я знаю, приходит ко мне в мгновения особенно затаенной злости.
Спускаемся к озеру. Замёрзшее поле воды – постоянный наш сообщник. Она держит меня за руку, заглядывает в лицо. А во мне захолонуло какое-то тяжкое знание – не вникнуть, не растолковать себе – холодное, отчетливое и неотвратимое. Ох, и ловок же, и лих – дворник.
– Что с тобой? Что случилось?
– Мышка с кошкой обручилась.
– Кто я?
– Ты – кошка.
– А ты – бедная мышка, – снова в уголках её глаз – слезы. Держит меня за обе руки, стоим друг против друга на далеко протянувшемся асфальте. – Правду, только правду: ты никого, никого не любил?
По правилам тысячелетней игры следует сделать загадочное лицо, помяться, отделаться шуткой или банальностью типа – «О любви не говори, о ней всё сказано». Но не могу, не в силах опуститься так низко – я же и вправду не любил никого. Знание обкладывает меня, леденит, дыхание замерзает на лету, а вокруг оттепель. И я виновато растягиваю непослушные губы в глупой улыбке.
* * *
Свалили сессию. Теперь полгодика на диплом, и никаких занятий. Встречаемся каждый день, держимся за руки и говорим, но всё, я знаю, поверху, поверху. Аёд тончает, уже иногда пахнёт из какой-то отдушины гнилостно восторженным запахом весны, навостряющей ростки в земле, обдаст веселым тлением, тревогой бренной плоти, кладбищенским тёплым ветром, обморочной игривостью песенки «Прощай весна в начале мая, а в октябре прощай… любовь».
Данька-кулан с чувством удовлетворения несет мне на хвосте слухи о Нине. Цены ей нет. За ней сейчас приударяет сам Марат Пушняк, баскетболист, спортивная звезда университета. Живём с ней в одном общежитии, но я никак не могу ее увидеть. Иногда на меня находит остервенение, и я прячусь в коридоре первого этажа, чтобы видеть всех входящих с улицы. Теряю часы. Может, она уже не живет в общежитии, а спросить девиц, живущих с ней в одной комнате, не решаюсь. Раньше к ней время от времени приезжали родители. Теперь и их не вижу.
* * *
Кружится пластинка. Вечер по случаю окончания зимней сессии – совместный: филологи и геологи. Танцуют в коридорах университета. Сюрприз: в дальнем углу маячит Нина. Рядом и вправду Марат, отмечающий, как верстовой столб, ее местоположение. Вот и они вступают в танго. В объятиях Марата она кажется еще меньше, чем на самом деле. Да и все рядом с ним кажутся мелкими, суетящимися в танце, нанизанными на острия галстуков. Чёрный юморок опахивает мою душу: группа вздернутых на собственных галстуках, группа на дыбе своих галстуков. И вправду так много полу задушенных лиц. Или побагровели от танца. Вон Алька – «самовар», все-таки с Аней, как я и предполагал тогда у Даньки – на других глаз у меня меток. Кухарский тает, обласканный стайкой девиц, во главе с неугомонной Светой, которая каждое слово обращает всему коридору. Давится радиола:
А в нашем парке старом
Опять гуляют пары,
И бабушки с внучатами сидят…
Марат смугл, Ниночка – блондиночка: эффектная пара.
Приближаются. Спина Марата заслоняет ее от меня, но ручка, обнимающая его спину, приветливо помахивает мне.
Что-то во мне обрывается. Пустота в области солнечного сплетения. Стою, как на иголках. Танцующих пар так много, что некоторые даже наступают мне ноги. Я пригвождён к стене в прямом и переносном смысле.
Лену пригласил Данька. Иногда они возникают из толпы шаркающих пар. Я вижу ее обращенное ко мне через его плечо, виновато улыбающееся, чего-то ждущее лицо.
С Маратом я спокоен. За его широкой спиной и самоуверенностью существа, до глупости знающего себе цену, мне ничего не светит. Но Нина-то, умница Нина, неужели она этого не видит. А может, она это делает мне назло? Причем тут Марат. Кажется, не он, а я слишком набиваю себе цену. А в десяти шагах от меня, прижимаясь к той же стене, парень с нашего курса, Юра Царёв, прячет от меня за длинными ресницами свой взгляд.
Меня качает. Хотя во рту не было ни капельки спиртного, а кажется, по Блоку, «пригвожден к трактирной стойке», улыбаюсь, кривя скулы, как боксер, который знает, что с поединка его вынесут, но все еще стоит в стойке. Идет во всю невидимая потасовка, поножовщина.
Все окружение ведет на меня осаду. Обложили. Танец кончился.
А ведь ни намека, ни слова, и она беспомощно и доверчиво опирается на мою руку. Только вот оглядывается, так, мельком, в сторону длинных ресниц.
Ну, какой же это бокс, скорее цирковой трюк, клоунада: наношу противнику удар, а, оказывается, бью-то самого себя. Ну, чем не мазохист.
– Он тебе нравится? – говорю тихо, отчетливо. Удар себе в скулу. Вскидывает голову, растерянно, вызывающе. Меня раздражает это жалкое копирование птичьего вдохновения. Сузила глаза, что-то в ней колеблется, замирает. Наконец, Господи, какое искреннее удивление: