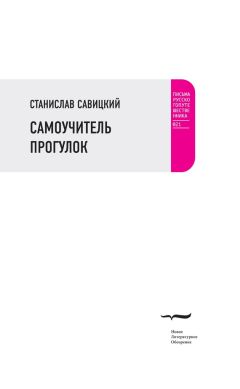Мы стали бы испытывать друг к другу особенную симпатию, если бы умели при необходимости поубавить соборности, оставляя друг друга наедине с самим собой. Если бы, запивая круассан bold pick of the day, каждый мог бы в качестве короткой десерт-паузы обернуться невидимкой. Каждый из нас имел бы право на три шага в бреду, если бы нам постоянно не напоминали, что мы слишком похожи друг на друга.
Флобер, обращая внимание на сходство между собой и мадам Бовари, издевался над публикой, привыкшей в те годы искать прототипов литературных героев. Доде даже пришлось переименовать своего героя из Барбарена в Тартарена, так как в Тарасконе нашлись Барбарены, подавшие на писателя в суд за клевету. Чтобы обезопасить себя от таких издержек творчества, Золя предлагал составить на будущее список возможных персонажей и заверить его у нотариуса. Тогда никто не смог бы выдать себя ни за кого, кроме самого себя.
Мы смотрим на людей, спешащих по делам, толкающихся на спуске в метро, и стараемся быть самими собой. Все прекрасно, все можно включить в книгу. Кто-то из нас как-то сказал с некоторой экзальтацией: «Прохожие меня вдохновляют». Наверно, тот, у кого всегда был с собой блокнот для рисования. Или еще кто-то. Сейчас-то никто из нас не рисует, но, смотря на людей со стороны, мы открываемся им и миру – всем, кого мы не знаем, но о ком хотели бы рассказать.
Тут, на задворках центра, всегда жили отставники, богема и отщепенцы всех сортов. Либо те, кто уже отошел от дел, либо те, кто никак к ним не приступит. То и дело к ним подселяли горемык, которые вечно теряют носы и остаются без последней шинели. Тут была написана всенародно любимая повесть об утопленном щенке, пока писатель отбывал в съезжей части штрафные дни за несознательный некролог. Это обочина жизни, мир маргиналов и фантазеров. Край небылиц и нелепиц.
Тут есть кафе «1848 год». Возле него стоял рекламный щит «Здесь вас встретят по старому, здесь вас встретят по доброму» (вот так, без дефисов). Очень гостеприимно, если помнить, что это год кровавых революций по всей Европе. Один пожилой поэт, живший по соседству, как-то зашел в кафе и вежливо посоветовал добавить дефисы. Девушка за стойкой подумала и сказала:
– Знаешь, дед… дуй отсюда!
Когда один итальянский режиссер решил снять здесь «Белые ночи», у него вышел фильм про снежную зиму, бессонницу (notti bianche), а главную героиню звали зачем-то Наташей.
На одной из здешних улиц есть три памятные доски с отметками уровня воды во время самого большого наводнения, какое случалось в городе. Все висят на разной высоте.
Один поэт в начале шестидесятых написал стихотворение про то, как он гуляет с другом в этих краях и обсуждает, похож ли этот город на европейский или нет. У текста есть два финала. В одном все как нельзя оптимистично, а в другом – не город это, а дыра дырой. Какой из концов предпочтительней, автор и сам не знал.
Однажды мы шли по набережной канала. Мы – или кто-то еще. У гранитной тумбы выпивали два мужичка. Один закусывал мармеладкой, другой с чпоком открыл крышку стакана с водкой. Пригубил половину – тем временем мы с ними поравнялись и увидели, что между ними на тумбе сидит холеный котище, вроде еще трезвый.
Как-то заходим в местное кафе. Из-за стойки парню и девушке, одетым торжественно и чудно, выносят полуметровый торт с пирамидой в центре. На вершине – он в отутюженном сером костюме и она в подвенечном платье. Увидев торт, парень и девушка улыбаются, но вдруг на ее лице ужас:
– Он же блондин!
Повар замер с тортом на вытянутых руках:
– Можно прикрыть мушкетерской шляпой… Вчера был заказ на Кота в сапогах.
Все уладилось. Мы попросили чаю.
– У нас нет контактного, – отвечает виновато девушка.
Мы помялись, помялись, но бесконтактного в этот день тоже не было.
Пошли в соседнее кафе. Официант спрашивает:
– Не изволите десертик, закусочку или завтрачек к чаечку?
– К чаечку? Не изволим.
Официант чинно расставляет на столике прозрачные кружки, сахарницу, миниатюрную пиалу с заварочными пакетиками, бережно укладывает ложечки на салфетку. Смотрит и нежно говорит:
– Наслаждайтесь!
Резкое падение ефимка приведет к кризису на турухтанской бирже. Также пишут, что Мэрилину Мэнсону наконец-то дали белорусское гражданство. Курту Кобейну посмертно присуждено звание почтенного гражданина Северной Кореи. Приготовиться Луи-Фердинанду Селину.
Прекрасны булочные с кондитерским отделом! Пожилые дородные продавщицы, прихлебывающие чай из чашек с парой синих утят, обмакивающие в чай сухари с маком. Перед кассой развалился осоловевший кот, жмурится, не хуже тех, что из рыбного. Ассортимент на все вкусы: бат. городск., корж молочн., кекс праздн., чизкейк «Гоген шоколадн.», широкий выбор спиртных напитков. На соседней полке ершик туалетный, десять видов декоративных кактусов, набор франц. сыров «Смеющаяся корова», рейтузы женские зимние с начесом, корм для попугайчиков, Стендаль «Красное и черное», «Бхагавадгита» (уцен.), С. Снегов «Люди как боги» (последн. экземпл.), фломастеры «Буратино». Телеф. карты: звонки в Иерусалим в два раза дешевле!
Не утерпели – купили бутылку красного для прогулки в парке. Продавщица нашла нам штопор и сказала: Откройте бутылку, и пусть вино подышит несколько часов, – и после паузы добавила: – Если вы, конечно, на такое способны.
В ноябре эти фонтаны и рыбалка в бассейне у дворца Монбижу, где теперь ресторан, кажутся анекдотом. Кипарисы – в снегу, амуры с тритонами – в зеленых ящиках, только Протей, Тесей и Моисей оставлены на зиму так. Зелени до мая не ожидается, поэтому кремлевские ели вдоль канала бросаются в глаза. Вокруг – парк челюскинцев: чахлые осинки, кривые березки, хрень пожухлая. Дракончиков на горе с бельведером припорошило снегом. Под фонтаном «Зонтик» спит убравшийся вусмерть охранник. Небо хмурое, горизонт едва просматривается, замерзший залив сливается с бледными облаками. На валу перед берегом, напротив Волшебной горы, кривые деревца подстрижены как шары. Марсианский пейзаж на фоне замерзшего северного моря. Третье чухонское рококо.
С каждым приездом ощущение, что ты здесь живешь постоянно, становилось все отчетливей. Регулировщик на перекрестке, руки в карманах, все так же болтливо посвистывал тем, кто проезжал прямо, и освистывал тех, кто мешкал на повороте. Тем же, кто из-за него совсем не понимал, что делать, выговаривал трелями на свистке. В парке по соседству древний греческий старик по-прежнему недоуменно разглядывал яйцо в своем кулаке. Совсем досократик.
Этот забавный город не заменял нам дом. Здесь у нас была другая жизнь, не совпадавшая с обычными делами и заботами, которыми мы не тяготились, хотя предпочли бы некоторых избежать. Это был не дом, а укромное место для прогулок, где можно воображать себя тем, кем станешь, или стать тем, кем себя вообразишь. Время здесь не бежало, а шло так, чтобы ты ощущал происходящее как свою историю.
Конечно, город этот был совсем не тем городом со знаменитыми музеями, изощренной кухней и рекой, которая в ясные дни была зелено-коричневой, а в пасмурные – мутно-серой. Каждый знал этот город на свой лад, как многие подобные нам искатели жизни впрок. Как тот художник, который приезжал сюда год от года из своего южного городка, чтобы запереться в тесной мастерской и рисовать яблоко. Или в другой раз, толком не повидавшись со здешними знакомыми и не побыв тут и пары дней, он забирался в окрестные деревни писать зелень на берегу реки или резвящихся в воде девушек.
География – наука о воображаемых мирах, география суть поэзотуризм. Перемещенные лица ищут пересеченную местность, чтобы идти по собственным следам. В поездку всегда берешь самого себя и проживаешь свою жизнь иначе и наугад. Путешествуя, путешественник путешествует минимум дважды, если не встретит трех троих.
В привокзальный буфет вваливается пожилой дядька в рабочем оранжево-серебристом костюме.
– Пьяным можно сюда? – спрашивает дремлющего за столом мужичонку.
Тот не понял, что вопрос к нему.
– Пьяным можно?
– Можно.
Дядька пристраивается к его столику:
– Есть ли у вас настроение для беседы?
Пауза.
– Ну что, грибочки пошли? – икает.
– Настроения нет.
Пауза.
Икает.
– Свои мысли хорошие, чужих и не надо. Да ведь?
Продолжительная пауза.
– А я вчера смотрел, как наши разорвали сине-белых.
Начинает дремать, положив ладони на край стойки.
Из туалета доносится звонкий тенор. У писсуара матрос, сыт и поет:
Служить России суждено тебе и мне.
Служить Россиииии!
Служить Россиииии,
Где солнце новое встает на небе сиииинем,
На небе сиииинем,
На небе сиииинем.
На ленточках бескозырки золотом отпечатано «Удалой».
Нам пришло письмо. В нем было фото, разорванное на клочки. Собрать снимок заняло несколько часов. Пришлось по-всякому повертеть обрывки. Наконец, сообща сообразили. Сначала составилась часть туловища в шубе, потом лапа – и вышел портрет трех симпатичных зверей с мордатыми хабитусами. Никто из нас с ними знаком не был.