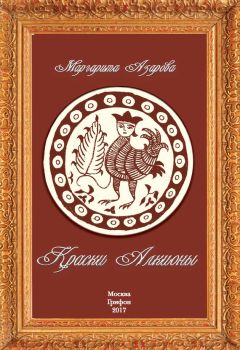– Законы власть имущих считаю надуманными, – для поддержания беседы, когда пауза затянулась, заметил я.
– Ты же знаешь, Вениамин, поверхностно рассуждать на эти темы может каждый в меру своего интеллекта. Ну, вот и я выступил. Что думал, то и сказал. Что они за провидцы такие? Только культивируют идею своего будущего благополучия. А честные, бескорыстные, безропотные создания – эта масса, которой хочется, чтобы кто-то показал ей манну небесную, шарахается из стороны в сторону сама же по чужой указке, создавая себе проблемы, которые стоят не только спокойствия, но и самой жизни. Религия как инструмент оболванивания и содержания в подчинении не более гуманна, чем весь социальный уклад жизни, созданный людьми власти. Но человек слаб, зависим. Соприкосновение, единение с обществом происходит через конфессии, и через религиозные в том числе, а у иных людей – и в первую очередь. Но мне настолько претит насилие коллективного разума… И вы правы: религия, принятая под страхом смерти, в силу навязанных социальных обстоятельств, не может вести за собой народ, это противно логике. – А под конец добавил: – Я мало смыслю в религии: ощущаю себя атеистом, иногда агностиком…
Никос посмотрел на меня задумчиво, и мне было непонятно, как он отнёсся к моим высказываниям и особенно – к признанию моего отношения к религии. А я и не настаивал. Потому что совсем далёк от этой темы. А он, видимо, не ставил своей целью меня в чём-то убеждать.
Тонкая кисея лессировки следовала за кистью, ложась прозрачным покрывалом лёгких кружев на холст. Вот она, рядом – та, что смотрит с портрета, можно дотронуться. Или нет – она скрыта в этой недосягаемой дымке: там её длинные русые локоны, схваченные шёлковой лентой с височными кольцами, с благородным достоинством взирающие глаза, хрупкий стан в национальной одежде восточных славян, с вышитым золотой нитью орнаментом, руки с длинными бледными пальцами, протягивающие в дар людям наливное яблоко, символ солнца….
Так я писал Алкиону днём – одну, а по ночам – по памяти – совсем другую. Изображал её самозабвенно. Стиль сфумато, обожаемый мной стиль, подходил для выражения её неуловимой притягательной чистоты и нежной хрупкости в сочетании с непонятной силой духа, внутренним, завораживающим свечением в органичной убеждённости в каждом произнесённом ею словом, жестом.
Завтра. Нет, уже наступило завтра. На часах 00.37, но я не могу заснуть, не могу лечь спать, волнение пронизывает каждую творческую клеточку сознания. Завтра последние штрихи, и я выставлю портрет Алкионы на обозрение Никосу и ей самой. Алкионе. Что она скажет? Что она скажет на то, что я не выписал дословно каждый изгиб её тела, а представил её в образе райской птицы с блестящим оперением? Чувство тревоги, не имеющее под собой никакого основания, не отпускало меня. Я прилёг, не раздеваясь, на кровать, уговаривая себя, что утро наступит быстрее, если попытаться заснуть, а неизвестность начнёт убывать с лучами рассветного солнца. Я и сам увижу картину другими глазами.
Вдруг Алкиона взлетела с полотна, было видно, что полёт ей даётся с большим трудом. Одно крыло было сильно повреждено, из него сочилась кровь. Я проснулся оттого, что, боясь её падения, распростёр к ней руки, стараясь предугадать траекторию её перемещения и подхватить в случае падения. Окончательно пробудившись от своего сновидения, я был рад, что это происходит не наяву. Но я срочно бросился в мастерскую. Полотно с изображением Алкионы было изрезано, под мольбертом было несколько перьев и капель крови. Кто со мной так поступил?..
Эта инсценировка была поистине жестокой. Опустившись на пол, бессознательно перебирая в руках перья, я зарыдал так, как не рыдал даже в детстве. Спектакль, разыгранный передо мной, не то чтобы не вписывался в рамки гостеприимства, а убивал всякое желание здесь оставаться. Ожидать, что произойдёт дальше? Нет, увольте. Ноги моей здесь больше не будет. Не хочу я решать эти ребусы. Нужен портрет – пусть позируют в моей мастерской, в городе.
Не понимая, как я отсюда выберусь – вокруг непроходимые болота, тем не менее, я стал кидать вещи в дорожную сумку – обычное бытовое действие если не успокаивало, то, по крайней мере, отвлекало. Мои действия были спонтанны. Во мне говорила обида, и логика никак не включалась. Под ударом обстоятельств она утратила свои ресурсы. Я вспомнил, с каким триумфом и прекрасным настроением работать я прибыл в это место, а теперь – малодушно бегу. Здесь я познал доселе неведомые мне чувства. Картина – я могу воспроизвести её по памяти. Краски были сложены в сумку…
– Нехорошо так поступать с девушками. Поматросил и бросил.
Я с недоумением посмотрел на Зирин, которая появилась в дверях.
– Я тебя не понимаю…
– Ночи, значит, со мной, в моих объятиях, а влюбился, значит, в сеструху мою. Я честь тебе свою отдала…
– О чём ты говоришь? Я не понимаю? Это были сны…
– Как сны? Богатая у тебя фантазия, наравне с моей. Такие сексуальные сновидения… можно фильмы снимать.
До меня начал доходить смысл сказанного. Какое я одноклеточное, ведь даже тогда, когда уже был влюблён в Алкиону, я в своих снах не гнал от себя Зирин.
– Кто изрезал картину? – спросил я у Зирин.
– А ты как думаешь?
– Я не думаю. Я тебя спрашиваю.
– Я тебе уже всё сказала. Поразмысли сам. Зачем ты из неё сделал такую красотку? В этом портрете нет и доли истины. Разве она такая? Она уродлива…
– Это моё дело. Я художник. Твой отец дал мне задание, я его выполнил. Тебе твой портрет вроде тоже нравился, почему ты его не изрезала?
– Ну, правда, я не понимаю, – более мягким тоном промолвила Зирин. – Тебе что, было плохо со мной? Какие у нас красивые, талантливые дети могли бы быть.
Чем я лучше ненасытной белуги с верхнего этажа? Разыгрывал из себя благородного влюблённого рыцаря, а сам при первом удобном случае удовлетворял свою похоть. Как это уживается в одном человеке? Эти ночи с Зирин оказались явью, то есть вся эта камасутра происходила в действительности. Я оказался настолько внушаем, нет, что греха таить, я и сам этого хотел сознательно и подсознательно, а Зирин, обладающей гипнотической способностью, осталось только взять меня магией чар, тембра голоса, женским ведовством, каким она владеет в совершенстве. Но днём чары не действовали, и я решил, что это всё сон, наваждение, моё бурное воображение, что ещё сказать. Видимо, мне это нравилось. Да не видимо, а я хотел этих оргий! И винить надо не Зирин, а меня. Как мне надоело моё самокопание и самоедство. Радует то, что я не настолько моральный урод. Отгородился стеной сам от себя, не веря в происходящее, обвиняя во всём обстановку, и такого откровенного без жеманства и ханжества желания женщины быть со мной. Мне, видимо, был нужен этот опыт психологический и физический, чтобы утвердиться, увериться в том, что я могу любить только Алкиону, соответствовать формуле любви, а не довольствоваться только одной её составляющей. И нежелание днём признавать, что происходило с Зирин ночью, надеюсь, важно для утверждения в этом. Но я люблю Алкиону.
Так я размышлял, уже спокойно раскладывая свои вещи на прежние места, после ухода Зирин.
Выяснилось, что Никос с Алкионой были в отъезде, а я, так занятый своими чувствами, своими творениями, забыл, что они предупреждали меня об этом ранее.
После того инцидента с одним портретом я в большей мере переключился на другой, который, слава богу, был мной надёжно спрятан и доставался только во время работы с ним, за плотно закрытыми дверями и занавешенными шторами.
Я не осознавал, что говорю с портретом, я хочу, чтобы то, что я создаю, существовало на самом деле.
Мазок за мазком меня соединял с ней – Алкионой, я не заметил, как мои уста, словно заклинание, твердят одни и те же слова, и слёзы сострадания капают на палитру, смешиваясь с красками:
Если бы моя любовь без скальпеля и лекарств вернула тебе твою красоту.
Если бы все недуги, доставляющие тебе физическую и душевную боль, перешли на меня.
Если бы я мог всегда быть с тобой рядом и быть тебе опорой, я стал бы совершенно счастливым человеком, а главное, если бы мог сделать счастливой тебя…
Я почувствовал, как невидимые атомы моей любви впитывают в себя боль возлюбленной, ещё более увеличив свой пульсирующий поток, захватывая всё пространство в пас и вокруг пас, в упоительный, обоюдный мир двух уже нерасторжимых друг от друга возлюбленных…
Я говорил и говорил, и в какой-то момент сделал шаг от портрета и заглянул изображению в глаза, и будто яркая вспышка ослепила меня…
Сердце Алкионы защемило.
Что с тобой? – спросил Никос, увидев её исказившееся от боли лицо.
– Не знаю, но, кажется, что-то с Марселем.
– Ну что с ним может случиться, ты же знаешь, он в безопасном месте. С ним и Влад, и Зирин. Да и волк к нему так привязался, ни на шаг не отходит…