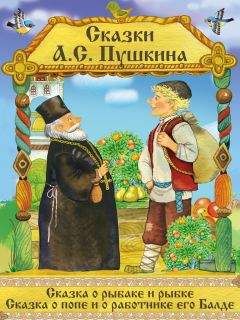С Верховным Цензором не поспоришь!
Аида, или Бесцеремонность и безмятежность
Она любит голубоглазых кошек.
Она любит псов сероглазых.
Она с виду нищенка и герцогиня:
Носит деревенские косынки и длинные юбки,
Любит синие и зеленые туфли,
Золоту серебро предпочитает.
По паспорту она – Аида.
По святцам – Любовь.
По созвездию Лев.
По призванию – Свидетель:
В темной хате на склоне дня
Мысль шальная меня посещает:
Мой Господь так меня отличает,
Что в свидетели выбрал меня…
Разговоры ее не похожи на будничные,
Жесты сдержанны,
речи насмешливы,
язык как бритва,
нрав скандальный.
У нее узкие локти прижаты к узкому туловищу, как у строгой деревянной пермской святой.
Глаза сверкают, как осколки синего стекла,
Лицо острое
На щеке ямка.
На лбу челка.
Профиль Данте
Усмешка Вольтера.
По ее стихам можно гадать на суженого – у каждой страницы книги загибать уголки:
…от угла и до угла
жизнь сновала, как игла.
Что таилось за углом,
то написано углем
за другим углом – мелком
то, что виделось мельком.
* * *
– Я – женщина деревенская, – представляется при первом же знакомстве Аида Моисеевна Топешкина (в дальнейшем Осипова, Балтрукевич, Хмелева, Сычева). – Моя родина село Кукуево.
Бывает, что в северных селах в семьях голубоглазых курносых псковичей нет-нет да и выкатится на свет божий девчонка, черная, как уголек в чугунном утюге. Вот и в этой деревне с частушечным названием выкатилась на белый свет черноволосая, остроносая, как галченок, девчонка.
Черноволосый синеглазый галченок родился в семье агронома-большевика (15 лет ГУЛАГа + пожизненная ссылка) и сельской учительницы Любови Петровны Молоденковой, дочери священника. Известно, что она с младых ногтей была близким другом и соратницей Юрия Галанскова[19], что отправной точкой ее диссидентства была «Маяковка»[20], где выступал Галансков:
Лицо Галанскова смеется,
над площадью
потерянный Ангел повис,
игра торжествует над ложью, над
пошлостью,
верхи опускаются вниз…
Известно, что она бушевала на процессе Четырех[21], защищая друзей, что она вообще всегда яростно защищает друзей и не боится ни врагов, ни властей.
Но начнем мы вот с чего: в теплой арбатской летней ночи, под фонарями, еле пропускающими свет сквозь загаженные голубями стекла, мы совершаем пиратский рейд по тихим дворовым лабиринтам и садикам с уснувшей черемухой. Орудуя маникюрными щипчиками и ножницами, взламываем хлипкие замки у сараюшек – выгребаем позеленевшие подсвечники, треснувшие зеркала в рамах с облупившейся позолотой и прочие ржавые раритеты… Собственно, орудует Антонио, португалец, нечаянно попавший в Москву и столь же отчаянно свалившийся в жизнь Аленки Басиловой[22] – Баси. Свахой стала Аида – направила южного юношу в квартиру, полную бубенцов, сломанных абрамцевских рамок, ободранной мебели, подсвечников, серебристой пыли и моли. У пиратки-Баси зеленые, как у стрекозы, глазища – горят в арбатском дворовом мраке. Она говорит про себя: я поэт. В ее стихах открыл редчайший размер Квятковский[23].
Она – ночная бабочка, променявшая день на ночь. И сегодня она все так же живет в ночи, все так же умеет смеяться над собой и с собой: «Я орел, я летаю одна…»
…Из подворотни навстречу нам выходит человек в белом свитере крупной вязки с разодранным рукавом. По рукаву из разодранного же запястья струится кровь, чернея в лунном свете. На локте у человека плетеная корзина, откуда выглядывают букет сервелата в обрамлении валютных банок растворимого кофе. Через плечо перекинуто махровое полотенце.
– Хмелев, – истекая черной кровью, представляется мужчина. – Аида велела принести ей еду, завтра она уезжает с детьми в Кукуево. Я по дороге залез на чердак, там на веревке белье сушилось, чтобы для нее своровать полотенце, – и вот, распорол руку о какую-то железяку… Теперь она меня ругать будет. – С этими словами человек исчезает, растворяется во тьме, черной, как растворимый кофе.
Известно, что Хмелев – один из мужей Аиды (в девичестве Топешкиной) – звался до женитьбы Аронзоном. Жена заставила его поменять фамилию.
«Люди злы, а боги слабы» – очень сильная строчка в одном из самых сильных стихотворений Любови Молоденковой. Боги наделили ее удивительными свойствами характера. Она не способна на тоску и досаду – может только гневаться и радоваться. Еще наделена она способностью восхищаться – стихами, цветами, лесами и древними зданиями – всем, что может обогатить ее мир. Благосклонная судьба всегда окружала ее толпой значительных людей. Сквозь ее московскую квартиру тянулось шествие: здесь можно было встретить богемного художника и литератора-отказника, поэта-битника, дворника, иностранного дипломата…
Читает стихи Сапгир. Играют в шашки полупьяный Зверев[24] с фотографом Владимиром Сычевым – тогдашним мужем Аиды. Выигрывает Сычев – Зверев делает рисунок. Выиграл Зверев – Сычев дает ему рубль. В соплях и шелках бродит по дому дочь Аиды от японца – нежная и печальная Настя, «чайная роза в помойном ведре» – так называют ее гости.
(На фотопленке памяти – оттиск: у Аиды в квартире на Староконюшенном летом мы пьем чай с дыней – очень изысканно! У самовара неподвижно, как божок, восседает пятимесячная Настя и слушает 7-ю симфонию Малера.)
На ампирной оттоманке позапрошлого столетия, обитой посеченным атласом, хозяйка штопает черный свитер. Напротив корреспондентка иностранной газеты.
– Какой это был красивый свитер! – произносит Аида в пространство. – У меня нет второго такого, этот износился, мне надо еще один, а вот у вас тоже очень красивый свитер…
Загипнотизированная корреспондентка стаскивает с себя свитер, протягивает, как жертвенные дары, Аиде, языческому идолу. В награду за жертвоприношение ей наливают горячий чай и угощают пряником.
(В нулевом пространстве вымысла я вижу, как во время вселенского катаклизма Аида на Луне штопает носки, уставив рядком прямые ступни-дощечки, спокойно вглядываясь в космос.)
Всегда и всюду у нее караван-сарай, будь то ветхий особняк на Староконюшенном, полуподвал на Трубной, либо парижский буржуазный дом. Повсюду на стенах иконы и прялки, на столе чай и сушки, на подушке – кошки. В салоне неизменно царствует рояль, укрытый до земли ковром. Под ковровым пологом порой находят приют бездомные парочки.
На кухне у Аиды рядком сидят печальные подруги – их Аида учит жить, удерживать возлюбленных, изгонять их – при этом непременно женить на себе. Известно, что у нее самой было пять мужей. Каждый подарил ей по ребенку, а один – двух.
Ее портреты рисовали Вейсберг[25], Зверев, Харитонов[26], Пурыгин[27].
…Что еще? Известно, что в полуподавле на Трубной в конце 70-х Аида организовывала подпольные выставки опальных художников и что посетители проникали на выставку ночами, влезая в окна, минуя топтунов. Известно, что ее безмятежность еще более нежели бесцеремонность вызывала раздражение гебистов и домоуправов. Впрочем, она всегда раздражала власти. Вообще, всегда раздражала всех. И более всего тем, что для нее любая схватка – будь то с властями, стихией, мужьями – была прежде всего захватывающей опасной игрой:
Мне вся жизнь – война.
Мне тишины – оскомины не надо!..
* * *
О богемной барыне – Аиде – известно почти все. О поэте – Любови – не известно почти ничего. Любовь Молоденкова пишет стихи всю жизнь, а стала публиковать их совсем недавно.
Совсем недавно три ее книги увидели свет – в них есть стихи, написанные еще в 50-х. Тому причина – крестьянская стыдливость – достоинство-недостаток вкупе с самолюбием поистине «львиным». А главная причина – то, что стихи должны слушать не люди, а небеса, травы, Бог:
В темной хате на склоне дня
Мысль шальная меня посещает:
Мой Господь так меня отличает,
Что в свидетели выбрал меня…
По ее книгам можно гадать на суженого, загибая уголки на страницах. Порой ее строки пронизаны яростной пантеистской чувственностью:
…Палевых роз бледных
утраченный аромат,
свежий, сырой, целебный
утренний разврат…
И в этих, внешне бесстыдных, неиссякаемо женских видениях редкостная целомудренность. Ибо страсть – необходимость для продолжения рода.
Она – последний акмеист. Осколок Серебряного века. Все ее стихи – исповедальная лирика. В поэтике преобладают не музыкальные (как у символистов), а пластические построения, пламенная влюбленность в реальность расцвечивает самые серые будни:
Пойду уборщицей в метро,
Там стены белые лукавят,
Там на ступени трости ставят,
На переходах пьют ситро —
Пойду уборщицей в метро.
Для пассажиров запоздалых
Я повяжу платочек алый,
Взгляд опущу притворно строг —
Пойду уборщицей в метро…
Трехмерный первозданный мир еe стихов полон земной красы, телесных радостей. Она не боится ничего, спокойно принимает все – смерть, бессмертие, Христа: