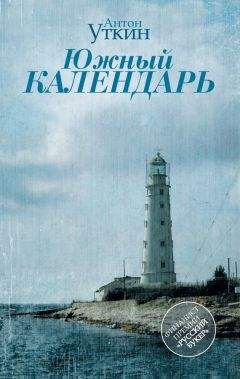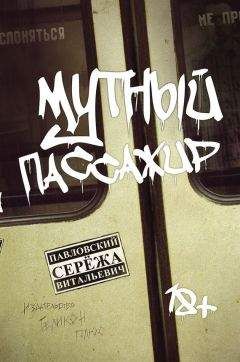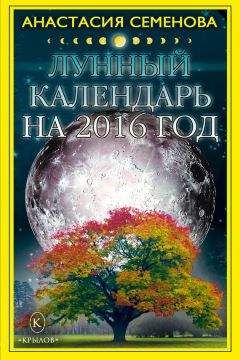Мищенко подумал, что Ольга на курсе нравилась многим, и сам он, кажется, года два или полтора был в нее негласно и безнадежно влюблен. Все пять лет она носила настоящую косу, которая выглядела несколько старомодно, но от этого Ольга была еще свежей и интересней. Сама она долго дружила с Ваней, ему даже завидовали, но внезапно, когда дело шло уже к диплому, отдала предпочтение Согдееву, и это случилось так быстро, что никто не успел ничего сообразить, и меньше всего сам Ваня. А сейчас – Мищенко видел – она располнела и, несмотря на это, имела утомленный и безразличный вид.
И от этого наблюдения Мищенко сделалось еще тоскливей. Отвернувшись в сторону, он думал о том, что утром приходил Артур и приносил деньги. Он познакомился с Артуром в позапрошлом году в городской администрации. Артур сказал, что есть один коллекционер, очень порядочный и знающий человек, что он хорошо заплатит за аривалический лекиф. Денег у Мищенко почти совсем не водилось, и он едва сводил концы с концами, и не имелось даже знакомых, у которых можно было бы взять в долг, но зато он знал, где взять лекиф. Спустя месяц Артур появился снова, дело пошло, и теперь он приходил каждую неделю и приносил заказы. Чаще всего спрашивали монеты, но пользовались большим спросом и амфоры, и терракотовые фигурки, и вазы, и прочая античная всячина. Запасник был огромный, а проверок, инспекций и комиссий не бывало. Была, правда, Валерия Петровна, сотрудница Мищенко, но у нее дочь болела чем-то серьезным, и постоянно требовались дорогие и редкие лекарства.
Мищенко думал о том, как Артур и он говорят друг другу «ты», а они с Валерией Петровной после его ухода говорят друг другу «вы», но предпочитают не пересекаться глазами. Артур тыкал бы и Валерии Петровне, да с ней он не имел обыкновения разговаривать. И как он, Мищенко, перебирая в кармане пальцами пухлую пачку, отсчитывает деньги и кладет их на угол стола, за которым сидит Валерия Петровна, и как она утыкается в бумаги, делая вид, что ее это абсолютно не касается и возьмет эти деньги только тогда, когда он куда-нибудь выйдет.
– А Ваня как? – спросил он у Согдеева, тот махнул рукой.
– Опустился Ваня, – сказал он, помолчал и прибавил: – Кому это все нужно? Сейчас-то.
Ольга не сказала ничего, но ее взгляд ясно показывал, что она разделяет недоумение своего мужа и жалеет Ваню, но жалеет его так, как жалеют душевнобольных.
В начале второго выбрались на воздух, прошлись по набережной. Пелена облаков закрывала небо непроницаемым мраком. Волны, глухо рассыпаясь невидимыми брызгами, бросались на берег и почти сразу за парапетом сливались с темным воздухом, и чернота воды была неотделима от черноты неба. Набережная ярко освещалась частыми фонарями; навстречу еще попадались люди, некоторые стояли, опершись на перила, и глядели, как пенятся ленивые волны, на скамейках сидели парочки, ветер приносил обрывки беспечных разговоров. Мищенко смотрел на море с изумлением, как будто сам только недавно приехал отдохнуть и развеяться. Море, мимо которого он ходил ежедневно, давно не вызывало в нем никаких чувств.
– Скучно тут у вас, наверное, – не то спросил, не то заметил Согдеев, зевая.
– Да нет, ничего, – ответил Мищенко тихим голосом. На воздухе он почти отрезвел, помрачнел и почувствовал себя раздраженным.
Назавтра Ольга и Согдеев должны были ехать в Алушту и дальше по побережью в Форос. Дойдя до гостиницы, они расстались. У входа в нее стоял автомобиль Согдеева, и было видно, как в салоне вспыхивает и погасает красная лампочка сигнализации.
Мищенко в одиночестве постоял еще у дверей, поглядывая на машину. Домой ему идти не хотелось. «Устрицы какие-то», – подумал он и покривил губы, как будто попробовал лимонного сока. В ночном кафе он купил вина, разлитого в полулитровый пакет, оторвал угол зубами, облился, спустился к самой воде и стал смотреть в темноту, где ворочались нехотя черные волны.
Тут раздражение понемногу улеглось, и его окончательно захватили воспоминания. Теперь он вспомнил Ваню, его странную привычку дуть себе на пальцы и складывать горелые спички обратно в коробок. Как спорили с ним и намеревались совершить важные открытия, как собирались ответить на многие сложные вопросы, подтолкнуть науку. Он почувствовал себя предателем, и мысль эта его не расстроила, а заставила невесело усмехнуться.
Он выпил еще немного вина, но все равно было тоскливо. Мерно шуршала галька, когда волны, завиваясь, как буйные кудри, тащили ее за собой. Ему вдруг стало жалко своей жизни, как будто разменянной на куфическую монету, словно это он был похоронен вместо Перисада и его присных и нет никакой разницы между ним живым и этим мертвым Перисадом; стало жаль своих честных мыслей, от которых и осталось только, что ухмылки да недоверчивые взгляды. Сейчас, глядя в темноту, он ясно увидел, что сам давно превратился в экспонат своего музея. Он попытался понять, где и когда, и при каких обстоятельствах это случилось, и кто виноват, но ответа не было. «Умники, – подумал он с пьяной злостью неизвестно о ком. – Столько книг понаписали, а толку никакого». Кстати он подумал о своих книгах, которые некогда с собой привез, – почти все они до сих пор лежали в картонных коробках, туго оклеенных скотчем, подумал, что уже два года он ровным счетом ничего не читает и не делает и только продает украдкой то, что до него находили другие.
Тучи на небе разошлись, ненадолго поредели, и в этих проталинах блеснули звезды, как роса на оттаявшей траве, и только луна пребывала по-прежнему за грядами сумрачных облаков. Особенно высокая волна взорвалась и рассыпалась совсем рядом с Мищенко, и несколько колючих брызг попали на его лицо. Он не стал вытирать их. Ему пришло в голову, что он еще молод, что ничто еще не поздно, что никогда не поздно, но что именно не поздно, он представлял себе не так ясно, как пять лет назад.
Он принялся думать, что будет дальше, наблюдая, как море с глухим шумом сменяет волну за волной. Их торопливая размеренность напоминала ему ход секундной стрелки, и им овладело благодушие. Мысль его успокоилась и прояснилась и текла неторопливо, как степная речка. За морем Турция, думал он, там тоже живут люди, одни умирают, другие рождаются, за ней еще одно море, над морем небо, на небе звезды, а что дальше – никто не знает, и узнает ли когда-нибудь – неизвестно. И почему все так, а не иначе, почему все в таком виде, и куда это все идет, и какой в этом смысл? Кто на это ответит? И опять вспомнил Ваню. На душе у него стало вдруг тихо и легко, и отчетливо показалось, что все будет хорошо, что он станет работать по-настоящему. И ему снова захотелось мечтать о будущем и открывать неведомые царства.
На пляж шумной компанией спустились какие-то люди и расположились неподалеку. Их возбужденные голоса и смех растормошили Мищенко, и мысли его сбились. Скоро он поднялся и медленно зашагал домой по безлюдному бульвару, обсаженному приземистыми платанами. Бульвар был пуст и темен, фонари здесь горели через один, и моря было уже не слыхать.
Добравшись до своей квартирки, Мищенко сразу лег в постель, не зажигая света, как будто боялся увидеть коробки с книгами, но некоторое время еще не спал и глядел, как в голубеющем небе окон извиваются под порывами ветра тупые верхушки пирамидальных тополей.
На следующий день Мищенко явился в музей после полудня. Было опять жарко, солнце, казалось, давило землю тяжкими лучами, как будто и не было ни ночного шторма, ни самой ночи, яркой, как откровение. Только на берегу черно-изумрудной каймой лежали перевитые водоросли и кое-где – студенистые оладьи медуз. Мищенко весь обливался потом. Усевшись в своем кабинете за стол, он полез в карман за платком, и рука его нащупала кусочек картона. Эта была визитка Согдеева. «Инвестиционная компания „Век“ было на ней написано золотой краской. Из окна была видна набережная, на ней фотограф в синей кепке терпеливо, как паук, караулил свою добычу, а повыше перил парапета синела узкая подвижная полоска моря и вспыхивала временами под ударами солнечных лучей. Оно раскатывалось далекое, равнодушное и ничего не помнило из того, что обещало вчера. „Ничтожество. Я ничтожество. Как это, наверное, страшно“, – спокойно подумал он и подивился собственному равнодушию. Он понял, что изменить, поправить уже ничего нельзя, что он будет дальше сидеть без цели за своим столом, приторговывать антиками и делиться деньгами с Валерией Петровной ради ее молчания, и жизнь будет идти, и крыша будет течь, и каждый день он будет видеть бронзовую гидрию и чернофигурный кратер напротив нее, склеенный из осколков в пятьдесят восьмом году. И Артур придет еще много раз и принесет много денег. И скоро у него у самого будет такая же машина, как у Согдеева, и по ночам, как неслышная сирена тревоги, в ней будет вспыхивать и гаснуть красная лампочка сигнализации.
«Мы теперь на Остоженке живем. Восемь комнат, ремонт только что сделал. Приезжай, – сказал на прощанье Согдеев. – Москву теперь и не узнаешь… Есть где оторваться», – прибавил он потише и, выждав, подмигнул так, чтобы Ольга не увидала.