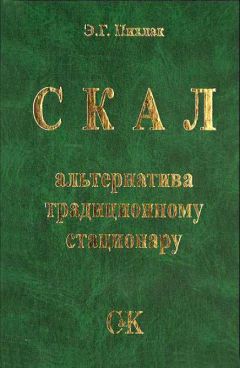– Вот только растопки совсем не до этого слова, – нахмурился сержант. – А нам еще картошку в чем-то печь надо. Да и спички не вечные – четыре коробка осталось.
– Четыре коробка – это и есть до хрена, – усмехнулся Филипп. – Все в порядке, командир, растопку на корыте можно найти. В трюме доски, есть пила, сломаем несколько переборок между каютами. В них нет ничего ответственного, а дерева хватает. Жарковато, конечно, будет, – допустил он. – Но, с другой стороны, жар костей не ломит. Что для нас важнее?
– Эта баржа – социалистическая собственность, – не подумав, брякнул Серега. – Ее нельзя уродовать и пускать на дрова.
Все уставились на него как на заговорившего оленя.
– Правильно, – удивленно заметил Филипп. – Баржа – самая что ни на есть социалистическая собственность. Но главная ценность социалистического государства – в чем, Серега?
– В чем? – набычился Крюков.
– В людях, комсорг ты хренов.
Серега запыхтел. Возразить было нечего.
– Хорошо, – решился Ахмет. – Добываем дрова, но только не утопите мне это корыто, когда усердствовать будете.
Теперь в буржуйке практически постоянно потрескивали дрова, а в кубрике царила атмосфера русской бани. Большую часть времени солдаты проводили на палубе, куда перетащили несколько матрасов. Каждый день в 14:00 они пекли в буржуйке по четыре картофелины, ели вместе с кожурой. Шатались по палубе, пока хватало сил, слизывали конденсат, который для истощенных организмов был подобен дробине в туше слона. К седьмому февраля на желтеющей газетке осталось восемь картофелин. Парням не хотелось думать о том, что будет дальше. Серега периодически забрасывал удочки, но рыба не ловилась. Филипп предложил сконструировать сеть, забросить ее за кормой, но дальше проекта дело не пошло – выплетать изделие было не из чего. За три недели они не видели ни одного судна, не считая химерических красных огней, пригрезившихся Сереге. Видимо, баржу действительно подхватило одно из течений, пересекать которое капитаны остерегались.
Движения людей становились заторможенными, потухли глаза, впали животы. Реакция замедлялась, слова они теперь произносили очень тихо и зачастую неразборчиво. Никто уже и не мечтал, что однажды их спасут. Но рядовой Полонский продолжал делать зарубки на стене в кубрике, подсчитывал дни и недели.
– Двадцать два дня кругосветки, – пошутил он седьмого февраля, вырезая ослабевшей рукой отметину на стене.
В этот день они съели четыре картофелины. У Ахмета мелькнула мысль растянуть пайку на два дня, но он подумал и отказался. Одна картофелина в день поддерживала хоть какие-то силы. Уж лучше ничего, чем такое издевательство.
Ночью на восьмое февраля Ахмет проснулся. В горле зверствовала знойная Сахара, разъедала стенки рта. Сил шевелиться не было никаких. Печка прогорела, температура в кубрике была нормальная. Свеча в алюминиевой кружке еще не растаяла, ее хватало примерно до середины ночи. Мглистое свечение озаряло помещение на судне. До бака с водой было четыре шага. Можно добраться до него на цыпочках, зачерпнуть кружкой, напиться, и никто не увидит.
Ахмет изгнал из головы крамольную мысль и разозлился. Откуда она взялась?
Федорчук протяжно застонал и явственно произнес:
– Любаша, я сам за водой схожу, посиди дома.
Он резко перевернулся на спину, захрапел и нечаянно задел ногой Полонского. Тот проснулся и начал медленно подниматься. Парень словно выбирался из могилы – зловеще, исторгая прерывистые хрипы. Глаза горели в полумраке потусторонним огнем, в них отражалось зыбкое пламя свечи. Филипп не видел, что Ахмет не спит. Несколько мгновений он сидел, словно вспоминал, где находится, с чем это связано и почему ему так плохо. Потом с кряхтением начал подниматься. Он блуждал как сомнамбула и отдавил Федорчуку пятку. Тот взбрыкнул, но предпочел не просыпаться. Полонский схватился за стену, перевел дыхание. Присел на корточки перед шеренгой последних картофелин, долго всматривался, протянул руку, чтобы взять крайнюю, но передумал. Рука зависла. Он, поскрипывая, распрямился и побрел, держась за стену, к баку с водой. Филипп открыл его почти бесшумно – отвел в сторону стопорный рычаг, приподнял крышку. Донеслось тихое позвякивание. Филипп вооружился кружкой и стал просовывать ее на дно, чтобы зачерпнуть воду.
Ахмет затаил дыхание, сердце его сжалось. Но тут с Филиппом что-то приключилось. Он застыл в раскоряченной позе журавлика, не донеся кружку до живительной влаги, всхлипнул, зашмыгал носом. Рука с пустой кружкой медленно возвращалась. Филипп поставил ее на пол, воровато огляделся – не стал ли кто свидетелем его минутной слабости? – пристроил на место крышку, натянул рычаг.
«Умница, – подумал Ахмет. – Так держать».
Филипп еще немного поколебался, встал на корточки и пополз к своей лежанке. Он повалился со стоном на скрученное одеяло.
Завозился Серега.
– Ты чего тут куролесишь?
– Ничего… – огрызнулся Полонский и тут же захрапел.
Теперь Серегу понесла нелегкая в неизведанные дали. Он тупо уставился на храпящего Филиппа, тряхнул взъерошенной головой, разлохматил ее пятерней еще больше и начал пробуждаться. Еще одному мертвецу надоело лежать в могиле. Он побрел на подгибающихся ногах по замысловатой траектории, зацепил ногой картошку, охнул, опустился на корточки, вернул ее на место. Вздохнул, двинулся дальше, остановился возле бака.
У Ахмета опять заныло сердце, но снова пронесло. Серега выплюнул непечатное слово, взялся за стену и заскрипел по ступеням.
«Удочки проверять пошел», – догадался Ахмет.
Их закрепили на корме, и гвозди, обмотанные паклей, постоянно тянулись за судном. Сон не шел. Сержант вертелся, пытался думать о чем-то приятном: о разнотравном луге у реки за околицей родного поселка, о милой женщине с красивым именем Гульгена, которая старше его на четыре года, но он все равно связался бы с ней на всю жизнь! Ее печальные глаза не шли из головы. Зачем ей этот тип из секретной части, с которым даже поговорить не о чем? Чертовы бабы с детства не знают, чего хотят!
Серега вернулся минут через десять. Скрипели ступени, он что-то бормотал под нос, искрометно выражался. Стоило предположить, что рыбалка не задалась, если не хуже – снасти могло затянуть под баржу и переломать. Ахмет помалкивал, разговаривать не хотел. Серега повалился на лежанку, уставился в потолок, потом глаза его затянула паутина, они закрылись.
Днем девятого февраля в торжественной обстановке – не хватало только оркестра! – истощенный караул съел последнюю картошку. Федорчук облизал закопченные пальцы, скорбно шмыгнул носом. Бойцы удрученно смотрели друг на друга. Все исхудали, ввалились щеки, обмундирование висело мешком. Из глаз сочились гнойные выделения. Щетина благополучно превращалась в бороды. У Ахмета и Сереги растительность на лице смотрелась еще прилично, сержанту даже шла окладистая борода. У Федорчука все топорщилось клочками. У Полонского под носом кустился неопрятный пучок. Козлиная бородка, похожая на метелку, делала его жалким и тщедушным.
– Хорошо, но мало, – вздохнул Серега.
– Самое время появиться помощи, – сказал Филипп. – Еда закончилась, где вы, люди?
Солдаты выбрались на палубу и в тысячный раз уставились на горизонт. Ничего новенького. Баржа дрейфовала, смещаясь на юго-восток, но людям на палубе казалось, что она неподвижна. Высоко в небе летел самолет, оставляя инверсионный след. Солдаты задрали головы. Для этого им пришлось опереться на что попало.
– Летят и ничего не знают, – вздохнул Серега. – Буржуи проклятые, им и дела до нас нет.
– Через три дня закончится вода из двигателя, – с напряжением проговорил Ахмет. – В пресном баке осталось пять или шесть литров. Это еще на шесть дней, если не снизить пайку.
– Куда уж снижать, – проворчал Филипп. – Наперстками пить будем?
– Итого на девять дней, максимум на десять, – продолжал Ахмет. – Можно выпаривать конденсат – еще какое-то время продержимся. Но спичек осталось два с небольшим коробка, не разгуляешься.
– Дурят нашего брата, – возмутился Федорчук. – В этих коробках не шестьдесят спичек, как должно быть, а от силы пятьдесят или сорок пять. Сера отваливается, чиркалки изнашиваются, многие спички не горят, а вспыхивают и сразу тухнут. А говорят, что советское – значит, отличное.
– Анекдот вспомнил, – ухмыльнулся Филипп. – Зоя Космодемьянская сидит перед немецкой конюшней, пытается поджечь, спичками чиркает. Та же история – не горят, ломаются. Немецкий часовой сзади подходит, смотрит через плечо. «“Гомельдрев”? – говорит, а сам лыбится. – Ну, дафай-дафай».
– На зону бы тебя отправить за такие анекдоты, – посетовал Серега.
– Кончилось то время, – усмехнулся Филипп. – А что крамольного в анекдоте? Зоя ведь не виновата, что в Гомеле не научились делать спички.
– Пацаны, я, кажется, вижу остров по левому борту, – заявил Федорчук.