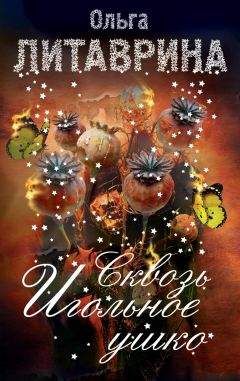Правда, случилось это не от хорошей жизни. По утрам движение в Москве закупоривали пробки. И однажды как-то, по дороге на работу, Венька с Любочкой (тогда еще не сидевшей за рулем) решили оставить железного коня и пересесть на метро. Благо от «Тульской» до их станции шла прямая ветка. Хотели – как лучше. Получилось – сами знаете как…
Едва Венька включил охранную сигнализацию и подал руку своей легкой половинке, как у него неожиданно и самым дурацким образом подкосились ноги. В тот день он с утра чувствовал себя не в своей тарелке, возможно, подхватил где-то знаменитый энтеровирус и позволил себе двойную дозу препарата. Теперь он, чуть не падая, уцепился за руку Любочки. Хотели двинуться дальше, но при каждом шаге опорную ногу пронизывала такая зверская судорога, что Венька буквально падал. Встревоженной жене он объяснил свое состояние температурой на фоне вируса и болью в искалеченной левой ноге. Хотя отлично видел, что правая нога подламывалась от судорог еще сильнее, чем левая. Проклятый препарат, он коварно расслаблял Веньку, а потом беспощадно бил, не зная жалости.
Решили дальше все же ехать на машине, но Венька мужественно упросил Любочку немного еще пройтись, авось разойдутся несчастные конечности. Минут через сорок его надежды оправдались – судороги прошли. Вдвоем они добрались-таки до работы, где Венька свалился в мягкое кресло своего уютного и прохладного кабинета…
В тот самый день он впервые взглянул на свою Любочку по-новому. Цепляясь в судорогах за ее руку, он близко заглянул в знакомое лицо, и в этот раз ему показались особенно глубокими ее чернющие глаза на фоне белой, незагорающей кожи. Глаза видели его насквозь и сразу определили причину его необычного состояния. Впервые Любочка поразила Малышева – такая хрупкая, тонкая, всегда бесконфликтная, казалось, немыслимая без его мужского плеча. А на самом деле – кто знает, чье плечо для кого получилось крепче?
И Малышев – некстати – вспомнил слова бедной Маринки, которая с наступлением беременности постоянно жаловалась ему, дескать, «зубы посыпались»! А однажды, побывав у зубного, удрученно передавала мужу нелестный отзыв специалиста:
– Понимаете, зубы у вас снаружи целенькие и чистые. Разрушение идет изнутри, и видно его, только когда требуется серьезное лечение. Слабые корни – как слабый внутренний стержень каждого зуба. В таких случаях дело частенько заканчивается имплантами!
Слабый внутренний стержень… Разве та поддержка, что принес ему препарат, – просто слабость? Да, разумеется, слабость… Тогда почему он идет по жизни все вперед и выше?
Думая об этом, Венька машинально продолжал «забалтывать» Любочку страшными рассказами о вирусе у знакомых. Та слушала и молча кивала, не глядя ему в глаза.
Самое смешное, что на следующий же день у него действительно и сильно поднялась температура, да так, что впервые пришлось вызывать участкового врача. Прибавились еще боли в мышцах, тошнота и рвота, а там и неизбежная диарея. Тот самый энтеровирус, так сказать, классика жанра. Венька лежал, глядя в потолок, несчастный и больной, надеясь, что жена забудет о вчерашней позорной попытке ехать на метро. При мысли об «Иксушке» его пробирала дрожь.
Любочка и в самом деле забегалась: заваривала чай с медом, моталась в аптеку за прописанными лекарствами – им и пообщаться-то особо не пришлось. Антибиотик в прописанной двойной дозе должен был расправиться с вирусом за пять дней. Потом пришли слабость, вялость и даже дрожь в коленях. И получилось как-то само собой, что после выписки Малышева на работу обязанность водить машину перешла к Любочке – спокойной и заботливой, как всегда. Так и прошел весь третий месяц второго года после аварии. Венька уже знал, что эта дата надолго теперь останется точкой отсчета в его жизни.
Отсчета его второй жизни…
Для восстановления сил после болезни Малышев позволил себе еще «на чуточку» увеличить дозу «препарата Х». Правда, теперь все, связанное с ним, делалось им втайне от жены, все-таки это позор, что он не может справиться сам, а прибегает к помощи этого «лжедруга». Хоть и безо всякой уверенности в Любочкином наивном незнании. Скорее – наоборот. Вообще лето прошло для Веньки как-то незаметно. Он продолжал «открывать» для себя Любочку, потому что сама она о себе совсем ничего не рассказывала. Венька пробовал разговорить друзей, в частности словоохотливую Лиану Геннадьевну. И выяснил, например, почему из родных Любочки никого не было на их свадьбе. Оказалось, что из родителей у нее жив только отец, да и тот затерялся где-то в осетинской глубинке. Остальное – как всегда: русская родня со стороны матери не приехала, потому что не желала общаться с родней осетинской, со стороны отца. А те не появились на свадьбе по той же причине. Узнал, что от первого мужа (а Люба до него уже успела побывать замужем) ей досталась небольшая квартира, которую она сдавала. Это и выручало их новоиспеченную семью в трудные минуты, покрывая большую часть затрат на его лечение. Узнал, что жена в свое время окончила Литинститут и вполне могла бы вести литобъединение в его центре, но никогда об этом не упоминала и не жаловалась на свое «семейное служение».
Но самое главное открытие ждало Малышева впереди. Первого сентября, в День знаний, Лиана слегка подвыпила – сначала на банкете в своем институте, затем в Венькином центре. Разболталась, конечно, больше обычного, при всех расцеловала Веньку – «как своего шефа». И одновременно сунула ему в карман какие-то листочки.
– А это – тебе, Венечка, и чтоб никто не догадался! Попробуй узнать автора: чьи это вирши?
Венька сначала не придал значения ее словам. Однако проснулся среди ночи и сбежал от супруги, заперся в туалете, чтобы никто не видел. Примостился там на крышке унитаза – и забыл обо всем. В детстве он так же «срывался» в стихи запрещенного Гумилева, Мандельштама и Блока (кроме поэмы «Двенадцать»). Стихов и было-то всего четыре странички!
Пришел июнь. Как мало было мая!
Бесценно лето в северном краю.
Я летом ничего не понимаю,
Я и сама себя не узнаю…
В июне каждый вечер самоцветен,
Воздушный день – хрустально невесом,
И тянет сердце оставаться в лете,
Коротком и пленительном, как сон…
На яркой пленке киноаппарата
Минутным кадром исчезают дни;
И осень нарастает – как расплата
За все, что невозможно сохранить…
За дверью лета наступает осень,
А там – зима затянет холода…
И в волосах уже тускнеет проседь,
Которой раньше не было следа.
Ах, что с того! Июнь – сама беспечность!
Царь лета – сам спешит меня простить.
За дверью жизни притаилась вечность…
Но мы – с июнем! Так о чем грустить?
А дальше:
Все ворчат, мол, я – с приветом!
На работе – воркотня…
Золотая радость лета
Переполнила меня!
Ни женой мне образцовой,
Ни работницей не стать.
Мир зеленый; цвет пунцовый…
Все иное – суета.
И в семье рукой махнули:
Непутевая судьба!
…В дорогом Дворце июля
Ждут меня на первый бал…
Я в плаще из белых лилий
И в браслетах на руках
Затанцую, как учили,
В золоченых башмачках…
Каждый вечер с этой тайной
Я стремлюсь из дома прочь:
В дорогой Дворец хрустальный,
В мир цветной – из ночи в ночь.
Несомненно, я – с приветом:
Не сидится мне в дому,
Пропадаю в царстве лета,
Земно кланяюсь ему…
На лице – дыханье сада,
Запах меда – на губах.
Никого ругать не надо:
Сами слышали – судьба!
Венька перевернул страничку.
Приключения Шерлока Холмса
В старом фильме, знаешь: бедный Рональд Адэр!
Сам полковник Морэн целится в упор.
Ничего не сделать. Никого нет рядом.
У судьбы подписан смертный приговор.
В неизвестной ленте – сразу непонятно:
Кто ловец, кто жертва; кто – герой, кто – враг?
На полу в гостиной – розовые пятна.
Скомканные письма. Долгая игра…
Дети смотрят фильмы – обо всем об этом.
Пишут на бумаге, упражняя слог.
Время сочиняет мудрые сюжеты,
В новых кинозалах тихо и тепло…
Кто-то смотрит фильмы, кто-то верит в сказки.
У соседей – праздник; у родных – беда.
Надо б, как в сюжете, в кровь добавить краски:
Чтобы понарошку, чтобы – как вода…
Умирают Адэр и полковник Морэн.
Шерлок, многознайка, подскажите мне:
Кто снимает ленту, где мы все – актеры,
Кто – уже вначале – знает наш конец?
И последняя – четвертая страничка. Здесь почерк стал неразборчивым, и Венька не смог разобрать торопливые строчки.