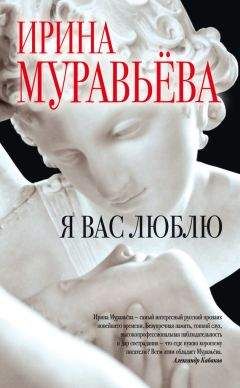– Ну, что? Очень страшно? – спросил он.
– Не страшно. А просто – нельзя.
– Нельзя – так не будем, – покорно сказал он и улыбнулся насмешливо, словно передразнивая кого-то. – Мы – люди с понятием.
* * *
Василий Веденяпин только что узнал, что 20-й корпус, про который думали, что он весь погиб, оказывается, жив, но понес огромные потери у деревень Богатыри и Волкуши и просит помощи. Это известие всех очень взбодрило. В штабе началось волнение. Все заговорили о том, что нужно немедленно идти на выручку, раз корпус так близко от наших передовых линий и до него всего-навсего шесть верст.
– История, Васька! – крикнул пробежавший мимо Веденяпина Багратион и с силой ударил его по плечу. – Своих будем спасать! Помогай Бог! Через час выступаем!
Через полчаса казаки донесли, что 20-й корпус, расстреляв все патроны, закопал орудия и знамена и сдался в плен. Наступление приостановилось, и было приказано отвести войска назад за форты. Около десяти часов вечера в штаб прибыл поручик 113-го Старорусского полка, остатки которого пробивались к своим. По его словам выходило, что 20-й корпус, не переставая, вел бой, взял в плен полторы тысячи немцев, одиннадцать орудий и всё еще отбивается. В штабе начались разногласия. Большинство утверждало, что своих бросать нельзя и нужно торопиться на выручку. Если 20-й полк услышит канонаду, он немедленно воспрянет духом и попытается пробиться к Гродно. Бедного поручика, совсем еще безусого, веснушчатого мальчика, забросали вопросами, больше всего интересовались тем, каково настроение в корпусе, хотят ли солдаты сдаваться или стоять до последнего. Поручик отвечал, что настроение у солдат бодрое и они очень намерены продолжать. Наступление было назначено на завтра.
Василий Веденяпин вышел из барака, сел на поваленный ствол и принялся думать. Впервые в жизни пришло в голову, что это, может быть, и есть его самая последняя ночь. От этой мысли по всему телу побежали мурашки, а в голове поднялся легонький звон, словно целое полчище раскормленных летних комаров залетело в левое ухо и теперь пытается вылететь через правое. Руки его быстро замерзли, и он поднес их ко рту, согревая дыханием.
Нужно было как-то соединить то, что и небо с редкими слезливыми звездами, и эти голые деревья, и воздух, настоянный на сырой древесине и потому так сильно пахнущий землей и корнями, останутся прежними, а его, видящего и чувствующего всё это, больше не будет.
– А где же я буду? – спросил он, и ветер с благосклонным и успокаивающим шумом растрепал его волосы, словно родной. – Я буду – где мама?
– Ты будешь «нигде», – ответил ему этот ветер, и черные деревья, и сказочно большие звезды на небе. – И мамы твоей больше нет.
Василий вскочил и принялся ходить по влажной черной земле, присыпанной кое-где, как сахаром, крупным вчерашним снегом.
На память пришла фотография, присланная маминой кузиной. На ней была внутренность небольшой часовни, посреди которой на возвышении стоял небольшой нарядный гроб, и в нем, отдаленно белея сомкнутыми веками, лежала женщина с гирляндой мелких цветов, окружившей ее расчесанную на прямой пробор голову. Лицо, немного размазанное на фотографии, было равнодушно-приветливым, как будто она спала, но восковые цветочки на лбу, страшные тем, что их невозможно представить себе на живом человеке, и эти спокойные, умиротворенно и нежно сложенные на груди восковые руки как-то особенно внятно сказали Василию, что это совсем не она, а то, чем ей дали на время прикрыться, как можно прикрыться чужою одеждой.
В кармане его была оплетенная фляжечка с одеколоном, недавно подаренная Багратионом: в армии строго соблюдался сухой закон. Соскальзывающими пальцами он торопливо отвинтил крышку и, обжигаясь, стал пить. Отпив половину фляги, с выпученными от пахучего огня глазами и пылающим горлом, он спрятал одеколон в карман и побежал по направлению к бараку, в котором жили окопницы. Арина ждала его: стояла перед дверью барака, до самых бровей закутанная в темный платок.
– Не знала, что думать! – тихо сказала она, обняв его и пряча голову на его груди. – Вчера не пришел…
– Я не мог, – ответил он. – На рассвете выступаем.
– Да знаю, сказали! – с досадой пробормотала Арина. – Всё сердце изныло.
Он изо всех сил притиснул ее к себе.
– Дышать тяжело, – нервно засмеялась она, высвобождая лицо, и, подняв его, посмотрела на Василия своими заблестевшими в темноте глазами. – Ну ладно, пойдем, попрощаемся.
В голом, обезображенном зимней смертью леске было совсем темно. Арина осторожно, ощупью разостлала на земле свою телогрейку, потом сняла стеганую кофту, прорванную во многих местах, с ватой, торчащей из-под черной материи, положила ее поверх телогрейки и, опустившись на приготовленную постель, принялась стаскивать башмаки.
– Ты хочешь разуться? – спросил он, садясь рядом и обхватывая ее за плечи.
– Чтоб всё по-людски, – строго ответила она и, стащив, наконец, башмаки, обеими освободившимися руками обняла его. – Совсем и не холодно, мигом согреемся.
Он быстро разделся, опрокинул ее навзничь и лег на нее. Холодно не было совсем. Ничто так не волновало его, как запах ее волос и смуглого тела, с самого первого раза показавшийся ему похожим на запах бузины, растущей у них за калиткой на даче. Сейчас, в темноте леса, он был особенно чудесным. Весь низ ее живота оказался влажно-горячим, и он с благодарностью, торопливо и настойчиво найдя то, чего искал, ощутил уже знакомую ему, но всякий раз пугающую бездну, которую заключало в себе это небольшое и покорное ему тело.
– Ох, горе! – выдохнула Арина, когда он, наконец, скатился с нее, весь потный, счастливый, бесстрашный и сильный. – Ох, горе моё!
* * *
Владимир Шатерников телеграфировал с дороги, что в пятницу приезжает в отпуск и остановится в гостинице «Большая Московская».
Таня так и не была уверена, что отец догадался об их отношениях, но то, что Шатерников до сих пор не разведен, хотя и не живет с женою, он знал, и эта открытая близость его дочери к женатому человеку должна была быть оскорбительной для отцовского самолюбия.
Они не виделись почти полгода. Раньше она очень ждала его. Она помнила, как по ночам не могла уснуть от тревоги, как дико колотилось сердце всякий раз, когда она получала письмо из госпиталя, как она боялась потерять его. Боялась! С утра и до вечера представляла, как они наконец встретятся и что она скажет ему. И как он обнимет ее. Вся та ночь, соединившая их телесно, была вдоль и поперек перечитана ее душою, как бывают перечитаны любимые книги, и полностью, до деталей, восстановлена памятью. Была чернота, духота, были звуки: то птиц, очень мелких, хотя и настырных, то шорох вверху облаков или листьев, лягушки смеялись, стонали и пели, – и, когда лодка мягко въехала в осоку, Шатерников, взяв ее на руки, выпрыгнул на берег. Они опустились на траву, как будто на чей-то огромный живот, который тихонько шуршал и вздымался. Лилии белели в черноте, их запах, как ветер, доносился с середины пруда. Потом была боль, но такая быстрая, что она почти и не почувствовала ее. Потом была кровь на ромашке. А утром Шатерников пришел к отцу и сказал, что уезжает на фронт. С этой минуты началась тоска. Она была тихой тоской ожидания, и Таня успела привыкнуть к ней, как к необходимости новой жизни, раздавленной войной.
И вот вдруг случилось ужасное, непоправимое. После обеда в ресторане, где она сидела на коленях у Александра Сергеевича и он осторожно целовал ее в шею, тоска ожидания заменилась стыдом. Она предала Шатерникова, позволив чужому человеку целовать себя. Если бы он вдруг увидел ее, сидящую на коленях у незнакомого мужчины, он, может быть, даже убил бы ее. Ну, пусть не убил, но ударил бы точно. И было бы только заслуженно. С обеда прошло несколько дней. Она не видела Александра Сергеевича, он не звонил и никак не давал о себе знать. Она ждала его звонка не меньше, чем писем Шатерникова из госпиталя. О нет, даже больше. Хотя бы для того, чтобы сказать ему всё, что не сумела сказать тогда, когда шампанское ударило в голову и она растерялась. Сказать, что любит другого. Поэтому не нужно сажать ее на колени и кормить цыплятами. Ничего не нужно, всё это ужасно. И главное – стыдно.
В четверг пришла телеграмма от Шатерникова.
Утром, в пятницу, привезли новую партию раненых, и Таня, задержавшись на перевязке, сообразила, что опаздывает к поезду.
– Вас там спрашивают, Татьяна Антоновна, – сказала новенькая, только что поступившая медсестра в открытую дверь операционной.
– Идите, идите! – махнул рукой доктор, которому Таня помогала с последним раненым. – Осталась совсем ерунда, вы идите.
Шатерников стоял в вестибюле, опираясь на палку. Он еще не заметил ее. Она не ожидала, что он такого маленького роста, Александр Сергеевич был выше его на целую голову. Внутри сжалось с такой силой, что Таня остановилась на ступеньке и продолжала смотреть на своего жениха, не двигаясь, заслоненная санитарами, которые перетаскивали по лестнице носилки с больными. Кроме маленького роста, он был откровенно похож на самого себя в роли Толстого, и не столько даже чертами лица, а тем особенно упрямым и одновременно взволнованным выражением, которое, как говорили, лучше всего удалось ему в этой фильме и было результатом долгих репетиций Шатерникова перед зеркалом.