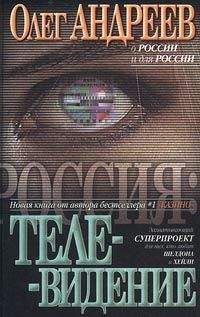Любочка, ничего не знавшая о планах мужа, очень скучала по дому – по его налаженному быту и уюту, по маме, у которой на все и всегда находился готовый ответ, по щедрому и добродушному Петру Василичу. Галина Алексеевна тоже скучала по Любочке. Но это была не пассивная утомительная тоска, а бурная деятельность во имя дочери и будущего внука/внучки, потому вечерами, придя с работы, Галина Алексеевна, толком не поужинав, садилась вязать пинетки и подрубать пеленки, собственное хозяйство совершенно запустив. Впрочем, Петр Василич не замечал этого. Спустя несколько дней после Любочкиного отъезда он купил по случаю старенький «москвич», еще довоенный, 39-го года выпуска, и все свободное время посвящал теперь ремонту. Спроси Петра Василича, он бы и не ответил, скучает по приемной дочери или нет, так затянул его этот кропотливый и трудоемкий процесс. Зато каждый прохожий видел, что дом принадлежит теперь автомобилисту – небезызвестный сенной сарай на заднем дворе был переоборудован в гараж, к гаражу расчищен подъезд, а в заборе проделаны новенькие ворота.
Странно, но с момента Любочкиного отъезда супруги почти перестали общаться. Они могли по нескольку дней не сказать друг другу ни слова и даже не замечали этого. Если бы Петр Василич умел сформулировать свое внутреннее состояние (хотя бы такими словами, как Герой Берлина), он бы с удивлением обнаружил, что все эти годы был женат не на самой Галине Алексеевне, а как бы на ее дочери, потому что от брака хотел, оказывается, только одного – детей, которых, увы, не дала ему война. Вот и получилось, что с Любочкиным отъездом семья как бы кончилась. Но Петр Василич был простым мужиком – бригадиром, потом старшим бригадиром, – домовитым рассудительным человеком, потому крушения семьи не заметил, а просто залег под старенькое авто, отдав ему сполна все отцовское тепло (подмена, вполне простительная настоящему мужчине).
А Любочка, управившись со слезами и с контейнером, стала стремительно обживать новое пространство. Это было чудо практичности и женской прозорливости – Любочка устроилась на почту в отдел писем, чтобы было откуда уйти в декретный отпуск, прикрепилась к женской консультации, легко завела дружбу с новыми соседями и сослуживицами и даже с одним молодым художником из Шелехова. Восторженный и, пожалуй, даже влюбленный художник написал Любочку маслом – хрупкую и воздушную, пока не расплывшуюся от беременности фигурку с букетом ржавых листьев – на фоне монументального спящего утеса; портрет занял почетное место над новенькой супружеской кроватью, а старая пружинная была даром отдана многодетным соседям через два двора. Новая роль вполне удавалась Любочке – играла она милую и добросердечную, во всех отношениях добропорядочную молодую жену, беззаветно любящую мужа, и потому аборигены ее с радостью приняли, даже соседская бабка, первое знакомство с которой не заладилось.
Начался учебный год. Гербер уезжал рано утром и возвращался поздно вечером в уютный обихоженный дом, где ждал его искусно приготовленный ужин, и чувствовал себя вполне счастливым человеком. С одной стороны, вне дома он остался свободен, каким был до свадьбы, с другой же, было ему теперь куда и к кому возвращаться. Прибегнув к очередному речевому штампу, можно сказать за Гербера – жизнь наладилась.
Глава 12
Любочка послушно ходила со своими новыми знакомками в тайгу за кедровым орехом, заготовляла на зиму брусничное варенье и старательно записывала в блокнотик новые рецепты щей да пирогов, предложенные неугомонной соседской бабкой. Любочке все больше нравилось быть самостоятельной. Она шагала на работу степенно, в магазине товар выбирала придирчиво и тщательно, как подобает солидной замужней женщине. Даже говорить она стала по-новому – медленно и плавно, словно взвешивая каждое слово на контрольных весах в сельпо.
Любочкина жизнь в этот период более всего напоминала банку консервированного компота, припрятанную к празднику, – статичная субстанция, сладкая янтарная жидкость за стеклом, в состоянии полного покоя. В этом неподвижном мире ничего не происходило, некому было взболтать банку, некому утолить жажду, некому есть сладкие ягоды. А праздник? Праздник – это еще когда…
Лишь однажды, в самом начале сентября, когда Любочка находилась в пылу обустройства, пришла к дому худенькая, невнятно одетая, стриженная под мальчика молодая женщина с припухшими от слез глазами. Она долго стояла у забора, вглядываясь в свежевыкрашенные окна, но во двор войти не пыталась. Любочка заметила ее, вышла на крыльцо. Женщина стояла по-прежнему неподвижно и внимательно, не отрываясь, изучала Любочку. Любочке от этого взгляда сделалось как-то не по себе.
– Вам кого? – грубо крикнула она от крыльца, но женщина даже не шелохнулась.
– Ну, чего уставилась?! Чего надо?! – снова закричала Любочка. Ей стало еще неуютнее. А незваная гостья и тут промолчала.
– Вот как собаку спущу сейчас, узнаешь тогда!!! – крикнула Любочка в отчаянии, хотя не было у нее никакой собаки, у них с Гербером даже кошки не было.
Тогда женщина отделилась наконец от забора и медленно, руки заложив в карманы вытянутой вязаной кофты, побрела прочь. Пошла, не оглядываясь и не ускоряя шага, словно и не стояла у забора битый час, словно и не сверлила молодую хозяйку глазами, а так, мимо проходила, прогуливалась просто. Любочка совсем перепугалась. Она топталась на крыльце до тех пор, пока странная гостья не скрылась за поворотом, потом для верности постояла еще немного, удостоверилась, что та не вернется, и побежала до соседки – от страха Любочкино маленькое сердечко колотилось как бешеное.
Она долго и сбивчиво объясняла соседской бабке, что произошло, но слова подбирались с трудом. Впрочем, бабка довольно быстро поняла, в чем дело. Напоила дрожащую Любочку липовым чаем, успокоила.
– Не обращай внимания, девонька, – утешала бабка. – Это, по всему видно, Валя была. Библиотекарка.
– Какая еще Валя? – насторожилась Любочка.
– Да твой-то ходил к ней, – объяснила всезнающая бабка.
– Как ходил?! – задохнулась Любочка.
– Обыкновенно ходил. Как мужики к бабам ходют. Да ты, девонька, не переживай. Это давно было. До тебя еще, – бабка погладила Любочку по плечу. Любочка заплакала.
– Бог с тобой, милая, не плачь! – успокаивала мудрая бабка. – Твой-то, чай, не мальчик уже, что ж ты думала? Это жизнь, девонька. Никуда от ней не денешься.
– Пусть… Пусть только попробует… еще… Только пусть попробует!.. Я… я ей тогда! – всхлипывала Любочка обиженно.
Но скандала не получилось. Поменяйся Любочка с Валей местами (то есть женись Гербер на Вале, а Любочку брось), тут бы и быть скандалу, обязательно быть. Уж Любочка своего не упустила бы, повыцарапала бы глазки обидчице, да еще на весь мир бы, пожалуй, опозорила – и Гербера, и Валю эту невнятную. Но этого, по счастью, не произошло, Любочка была законной женой, любимой женой, Валя была посрамлена и брошена, к тому же, раз посмотрев на Любочку, под окна больше не приходила, предусмотрительно не показывалась и на почте, а через пару месяцев и вовсе перевелась в другую библиотеку, в другое село – инцидент, что называется, был исчерпан.
С неделю Любочка пилила Гербера, надувала обиженно губки да выясняла, что и как было у них с Валей, а Гербер ее успокаивал, что Валя, мол, в подметки ей не годится. «Еще бы! – мстительно думала Любочка. – Тоже мне соперница, мыша серая!», однако для порядка периодически припоминала мужу это мелкое происшествие, чтобы не расслаблялся и на сторону – ни-ни.
А сам Гербер был рад, что Валя уехала. Хорошая она была девушка, серьезная и порядочная, и в прошлом году он уже почти собрался сделать ей предложение, да бог миловал, остановился вовремя Гербер и не жалел об этом ни минуты. Любочка что? Любочка ему в рот смотрела, ревновала его, в постели от удовольствия постанывала. А Валя? Валя, предположим, его тоже любила, но не так. Шибко умная она была, эта Валя, вот что. И все-все про Гербера понимала – когда привирает, понимала, и когда рисуется, хвост распускает. С нею-то, понимающей такой, разве жизнь бы у него была? Чего эта Валя страдала теперь – непонятно. Раньше надо было думать да умничать поменьше. То ли дело однокурсница Марина. Вот ведь городской человек, до кончиков пальцев! Посмеялась над Герберовой женитьбой, поздравила. Подарила даже хрустальный салатник. Они и сейчас встречались иногда, раз в две недели примерно, чтобы приятно провести время – посидеть в кафе, понежиться у Марины дома за бутылочкой-другой сухого вина. (Гербер в такие дни с самого утра предупреждал Любочку, что ему вечером в институт заехать надо и он поэтому в Иркутске у друга ночевать останется. Любочка не возражала.) Марина ни за что не стала бы приходить вот так под окна и стоять, она гордая была. Да и Гербер был для нее – так, один из многих. У Гербера никогда даже в мыслях не было жениться на Марине – во-первых, ему не нравилось быть одним из многих, а еще во-первых, она над ним постоянно смеялась, всерьез не воспринимала. Этих двух «во-первых» было вполне достаточно, чтобы не искать никаких «во-вторых».