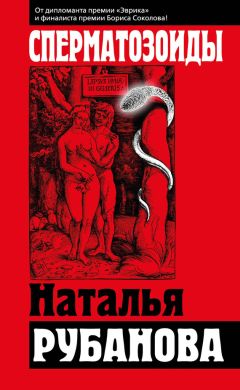Сана лениво потягивала Catto’s под «Анатомию»[71], вспоминая концерт в ЦДХ, куда частенько бегала раньше (как, впрочем, и в Музей кино, пока тот не закрыли) и где появлялась теперь лишь изредка: все меньше сил оставалось на то, что по-прежнему называлось искусством («арт-продуктом», хрюкали худmanager’ы с дипломами кульковиков-затейников[72]) – да и зачем тратить время? Как ни крути у виска, ничегошеньки с душой-то ее не резонирует. Из всех залов и галерей выходит Сана скорее опустошенной, нежели наполненной – и киноклассика уж не та, и авангард приелся. Что-то чужое, чуждое стоит за всеми этими «art-высказываниями art-объектов»… Иногда Сана чувствует, будто вместе с «продуктом искусства» в нее вставляют кусок чьей-то пластмассовой боли – ядовитые испражнения не ведающих покоя душ, прячущихся под масками музыкантов и прочей сволочи, как сказал бы царь Питер[73], не то что не прибавляют ей, и без того чуть живой, сил, а, скорее, отнимают последние.
Осмысленный пока лишь на бессознательном уровне, расстрельный список Саны день ото дня пополнялся (и первыми «тремя китами», на которых стояла когда-то планетка ее воображения, стали, увы, Шнитке, Каурисмяки и Дали): в какой-то момент она почувствовала, что физически, до спазмов в горле, не может воспринимать то, что когда-то любила. Все чаще – как любой, впрочем, «неофит» – задумывалась над тем, имеет ли право художник впрыскивать в душу user’a hand-made-рвоту, класть на лопатки двуногого, не способного к созданию объектов и смыслов лишь потому, что является проводником – и не более, не более – некоей энергии… «У медиума просто ширина потока в разы больше[74], – скажет потом Полина. – Важности, которую на шарике этом одаренности придают, не существует. Талант – следствие подключения биомеханизма к мощному энергоинформационному каналу, вот и все…». И все: «Папа, а зачем нам такие большие ноги?» – спрашивает маленький верблюд взрослого. – «Мы корабли пустыни, сынок. Мы идем день, два… Много дней, мы никогда не устаем!» – «Папа, а зачем нам такие большие горбы? Для чего они?» – «Мы корабли пустыни, сынок! Мы можем обходиться без воды долго, очень долго!» – «Папа, а на хера нам все это, если мы в зоопарке?..». Сперматозоиды, сжала виски Сана, ничего своего: мясные компы с думалкой, профессионально обученные страдать и бояться… А в небе Сирокко с Бореем сошлись[75]: Сана поставила «Зиму» и подошла к окну – а ведь облака, Смит, похожи на белых крыс… крыс, нанизанных на шампур, вздрогнула она, и неожиданно заскулила. Да, П. все еще хотел ее видеть, и это не было бы настолько банально, кабы его ж. не уехала с киндерами в Тулу – не в ту, тольтекскую[76], не в то время, а жаль, жа-аль, ведь, коли точка сингулярности действительно существует, вероятность того, что его ж. принесут в жертву, до сих пор остается… Сана гнала, гнала, конечно, подобные мысли, и все же… И все же (потирая руки): если так называемое пространство вариантов вмещает в себя бесконечное количество секторов, если User силой мысли волен «высвечивать», будто фонариком, тот или иной сектор и попадать туда, куда, как ему представляется, именно сейчас необходимо, то его ж. – в одном из ее, Саниных, секторов – вполне может претендовать на роль примы в ритуальном жертвоприношении… Ок, пусть э т о сделают не тольтеки, ок: пусть ее ожиревшим сердцем займется ацтекский жрец – пусть вырвет его в главном храме Теночтитлана, ничего страшного… Так думала Сана до тех самых пор, пока не услышала: «Дай червонец!… Да я, хошь, презику[77] башку оторву – похмели, ну чо ты! Да я за тя молиться буду – у меня ж иконка есть…» – «Когда презиком станешь, тогда и дам»: цок-цок, тетка, перецок.
А заполночь – романсы кровавые: «Зззойка-а-а-а, открррвввай! Открррвай, кхм-му грррю! Зззойка-а-а-а!!!» – и так минут сорок. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя[78]: Сана сонно глядит на часы – без четверти-давно-уже-ночь, без четверти-давно-бы-спать, без четверти-сменить-бы-жизнь, ан нет: то стук за дверью, то мат… И: дзыннь-ля-ля! – нагло, нахраписто: три часа ночи.
Сана лежит, не шевелясь; под боком Марта, лучшее в мире лохнесское чудовище, лохматое чудо-юдо дворянских кровей, обнаруженное аккурат в тот еще праздничек Цеткин и Люксембург у одного из «парадных» (ах, если б те был!) града Ж. Гноящаяся рана да запекшаяся на морде кровь – вот, собственно, и все, вот, собственно, и вся love-story, – ну а дальше глаза в глаза, зеленые – в карие, дальше глаз собачьих ехать некуда: что-что, а уж это-то Сана знает наверняка, как знает наверняка и то, что никогда не возлюбит ближнего – прошло много лет, а з в у к все стоит в ушах, все не отпускает…
Она брела к «Иллюзиону» дворами; «пш-пш, пш-пшигр», «пш-пш, пш-пшигр», – шарканье чужих ног сзади раздражало. Вскоре, правда, все стихло – вместо «пш-пшигр» она услышала глухое неприятное «блуммм», потом еще несколько раз – «блумм», «блумм», – и обернулась: старуха била собаку здоровенной сумкой с торчащей оттуда железкой. «Что вы делаете?..» – крикнула Сана, а, подбежав к ней («Нах рули, ясна-а? Мая с-ссука… вали, на-ах»), заглянула в щелки бабкиных глаз и невольно отшатнулась, но уже через миг, не помня себя, попыталась вырвать у нее – ужасные, ужасные митенки, обнажающие крючковатые ногти – поводок: собака заскулила, потом зарычала, потом опять заскулила… Сана не помнит, как они, разом сцепившись, превратились в живой клубок, как покатились по снегу и как проходивший мимо папик семейства (прокладки Bella в пакете и детская смесь) с любопытством наблюдал за происходящим…
Не думать: об этом и том, том и этом – не дума-ать, три часа ночи! Но как? Сана помнит, как бросила пакет с нехитрым провиантом все у того же «парадного» и, взяв скулящую псину на руки, заторопилась в скворечню. Пока же шла с бесценным грузом по парку, поняла, что ни к одному существу не испытывала еще той безусловной любви, которая вспыхнула вдруг к этой зверюге – Сана всегда, конечно, таскала домой всякую живность; в институтскую же бытность умудрилась выкрасть из вивария несколько живых душ, которых готовили к плановой смерти, не предполагающей анестезии – в тех случаях, когда применение наркоза невозможно или недопустимо, необходимо пользоваться специальными операционными столиками или приспособлениями для фиксации животных, предупреждающими возможность укуса персонала, – и все же… Марта, что бы я без тебя делала, шепчет Сана. Как это там – «идеальные лабораторные условия для воспроизведения невроза»?.. Где это – т а м?.. Не в электричке ли, где становишься ближе к народу, и народ становится к тебе ближе – упирается в почки, сдавливает грудную клетку?.. «Ты, пассионарий грёбаный! – летит из тамбура: звон, стук, треск. – Я тя щас ка-ак…» – «Херовыпрямитель купи, чмо болотное!» – «Не пизди, будь любезен!» – и опять: треск, стук, звон. «Пассионарий», хвативший в граде Ж. пива, справляет нужду в тамбуре: обычно за это не бьют, но раз на раз не приходится, молчи, Сана, молчи, – а лучше, панночка, опусти веки… В электричке появляется чувство локтя, думает, зевая, панночка, и не поднимает век до самой стольной: от стоящего рядом мужичка в замшелой телогрейке (аксессуары: чекушка и изъеденная молью кроличья шапка) несет мочой; в вагоне последнего и единственного класса играют, разумеется, в карты: «Король, сука, не стоит!» – «Да у тебя в штанах хоть бы встал, радость твоя!» – гогот, «Дэвушк, а вас как звать? Ути-уть, какие мы гордые!», поднимите мне веки – туда и обратно, хоббит, туда и обратно, туда и… где эта улица, где этот дом?.. Ubojnaja-street не освещается никогда: жизнь замирает после восьми; дзыннь-ля-ля! – а звонки все настойчивей: шум, гам, мат средней тяжести – Зойка-красотка, как называют соседку аборигены, гуляет. Это потом она, с позеленевшим лицом, будет психоделично зависать над прикроватным тазиком, полным желчи, умоляя Сану сделать «хоть что-нибудь», это потом будет клясться, что «никогда больше…», – ну а пока Зойка пьет: ей все еще тридцать семь, она миниатюрна и на редкость хороша – исключительно породистое не только для града Ж. лицо (ошибка сперматозоида, грустит Сана, перепутавшего беговую дорожку, опять сбой программы!). Всю жизнь Зойка, как пишут любители выдавить слезу из словца, мыкалась по ресторанам да магазинам – официанткой да продавщицей, однако, несмотря на специфичность работки, умудрилась не растерять крохи вежливости (здрасте, спасибо, извини) и даже казалась несколько застенчивой в мелочах, хотя, скажи ей кто-нибудь о том, она искренне удивилась бы.
Первый ссыльный год Сана невольно наблюдала за малоосмысленным существованием соседки и двенадцатилетней ее дочери – благополучно онемеченная телекартинка, радио «Шансон», нерегулярное появление в церквушке града Ж., тусовки, жмущаяся к двери черная кошка, капельницы с гемодезом: «Сана, да если б не ты, я б и не знаю чего…». Второй замкнутый круг ссылки начался с того, что Зойкина мать увезла внучку в стольную, тайком забрав документы из школы. «Представляешь… Ликуньку-то мою… взяли…» – Зойка хлюпнет носом и уйдет в очередной запой: один из них, осложненный сотрясением мозга, Сана помнит особенно отчетливо. Зойка стояла перед ее дверью, еле держась на ногах – рукав дубленки болтался, под глазом красовался синяк, сапоги были по колено в грязи: «Не дала я ему, не дала-а! Думаешь, если пью, падла, значит, даю всем?.. А он возьми – да по голове, по голове-е! Чтоб я еще с ней куда… Я ведь спрашивала: нормальные мужики будут? А чё, говорит, нормальные мужики, руки-ноги… Я ж спрашивала, Сан, я ж ее спрашивала… А он – по голове, по голове-е-е…». Лежала она с неделю и, в общем, выкарабкалась довольно быстро, – а как выкарабкалась, круг опять замкнулся: «Сан, выручишь стольничком до завтра?» – «Зззойка-а-а-а, открррвай! Открррвай, ккхму гррю! Зззойка-а-а-а!..»: Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя.