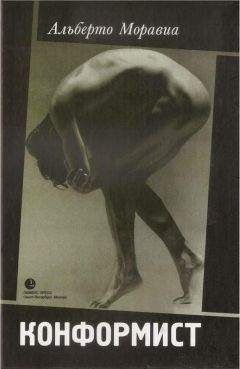Александр был освобожден от службы в армии из-за близорукости. Отец выхлопотал ему бронь. Но лучше бы он ушел на фронт. Там кормили.
Александр был молодой, высокий. Его организм не выдерживал голода. Он стал отбирать у Веры ее 125 блокадных грамм. Но этот кусочек хлеба не спасал. Казалось, наоборот, он только разжигал страстное желание есть.
Однажды утром Вера увидела, что родители – мертвые. Они умерли ночью, оба сразу или по очереди – неизвестно. Да и какая разница… Блокада сделала смерть явлением обыденным, почти житейским. Все люди как будто выстроились в очередь на тот свет и покорно ждали. Без страха. Жизнь превратилась в непрерывное страдание от голода и холода. А смерть – конец страданиям.
Александр с ужасом смотрел на мертвых родителей, на их желтые заострившиеся носы.
Он знал, где Вера хранит свои карточки: в ящике комода, под бельем.
Выдвинул ящик, достал полоску карточек и завел руку за спину. Как ребенок.
Вера устремилась к этой руке, чтобы отобрать, успеть. Полоска карточек – это и была жизнь. Целая жизнь целого человека.
Но Александр оказался сильнее. Он схватил Веру одной рукой под коленки, другой – поперек спины и понес ее к окну, чтобы выбросить с пятого этажа.
По дороге он передумал и свернул к двери. Решил выкинуть за дверь.
Он вышел на лестничную площадку, стряхнул Веру с рук и вернулся в квартиру. Запер дверь на засов.
Вера не могла сопротивляться. У нее не было сил.
Вернуться она тоже не могла. Александр бы ее убил.
Вера не обижалась на Александра. Она его понимала. Голод сильнее человека.
У Веры была способность: влезать в чужую шкуру. А понять – значит простить.
Вера спустилась вниз по лестнице. Вышла во двор. Села на лавочку.
Стоял красивый морозный день.
Вера обернула лицо к солнцу и прищурила глаза. В этом прищуре дрожали круги. И вдруг возникло лицо – скуластое, смуглое, обтянутое кожей. Это был немолодой солдат в ватной шапке-ушанке. Он молча смотрел на Веру, потом сказал:
– Есть будешь мало, но не умрешь. И все у тебя будет. Надо потерпеть.
Он повернулся и пошел. На его спине примостилась котомка, похожая на собаку. Вера смотрела ему в спину. Откуда он взялся? Куда пошел?
Вера сидела на лавочке и не понимала: что делать, куда податься?
Поднялась и пошла в церковь. Церковь оказалась открыта. Лики святых бесстрастно глядели со стен. Один из них, Иоанн Богослов, смотрел не вообще, а конкретно на Веру. Вера отошла вправо. Иоанн последовал за ней глазами. Вера прошла несколько метров влево. Иоанн направил взгляд влево. Следил неотступно. Лик был смуглый, краска потемнела от времени. Иоанн Богослов мучительно кого-то напоминал. Вера напряглась и сообразила: мужичка с котомкой, вот кого… На иконе он был без шапки, что само собой разумелось. Все-таки святой…
Вере стало ясно, что к ней приходил Иоанн Богослов. Он явился в минуту роковую, чтобы вдохнуть силы. Поддержать.
Но почему именно Иоанн? У Веры была маленькая икона Николая Угодника, которая досталась ей от матери. Логичнее, если бы явился Николай. Но идет война. Умирающих – тысячи. Ко всем не успеть. Вере явился тот, кто посвободнее. Да и какая разница… Святой он и есть святой.
Вера вдохнула поглубже церковный воздух, как будто испила воды. И пошла.
Теперь она была не одна, а вместе с ангелом-хранителем. И не каким-нибудь заштатным ангелом, а самим Иоанном Богословом.
Вера поселилась у своей землячки Шурки Голубевой. Шурка приехала в Ленинград учиться, но никуда не поступила и работала нянькой при годовалом ребенке.
Ребенок плакал от голода, и Шурка самым серьезным образом хотела отрезать от себя кусок мяса. Отрезать и сварить.
Время текло как в тумане. Народ роптал: лучше бы сдали город немцам, чем ежедневная пытка голодом. Кутузов в двенадцатом году сдал Москву, не хотел рисковать жизнью солдат. Потому что нет ничего дороже жизни. А для Сталина люди – не в счет. Нужна победа любой ценой. В эту цену входила жизнь Веры и Александра, и его родителей, и всего города.
Александр воспользовался карточками Веры, но все равно умер. Молодые умирали быстрее, чем сухие старики.
Веру в последней степени дистрофии переправили по Ладожскому озеру, как тогда говорили Дороге жизни. Грузовики с людьми тянулись один за другим. Немцы бомбили Дорогу жизни. Тут и там вскидывались фонтаны воды. Грузовики уходили под лед. Люди замерли в оцепенелой покорности, а Вера была почти спокойна. Она знала, что ангел-хранитель ее не бросит.
Так оно и случилось. Верин грузовик проскочил.
Вера стала работать в прачечной. Адский труд. Все вручную. Но зато – буханка хлеба. Можно нюхать, сколько хочешь, и медленно жевать, закрыв глаза.
Война окончилась. Вера не вернулась в Ленинград. Не смогла. Тяжелые воспоминания обволакивали, как липкий туман. Хотелось ясности, солнца, широкого обзора.
Вера поехала в Москву. Поступила в институт кинематографии. Вернее, восстановилась.
Студенты – вчерашние солдаты в военной форме, поскольку не было гражданской одежды.
Девчонки – модные, сытые, проживающие с папой-мамой. И среди них Вера – тонкая жердь, всегда голодная, в одних и тех же юбке и кофточке. Она привыкла есть впрок, в любое время, поскольку непонятно – где и когда придется перекусить. А может быть, нигде и никогда. Блокада прочно вошла в сознание, превратилась в фобию.
Вера сняла комнату в подмосковном поселке. Там дешевле. Питалась одной картошкой.
После института ее взяли в Театр киноактера. Из-за типажности. Простая и русская. Остальные красавицы были похожи на кого угодно: на француженку, на немку, на шведку. А вот такая – простая и русская, от земли – только Вера.
Иногда ей делали сложный грим, укладывали волосы, и тогда она походила на молодую Тарасову. Но Тарасова – генеральша. А Вера – вечно во всем виновата. Такое у нее было выражение лица.
Сокурсник Васька Беляев шутил: «Битие определяет сознание». Не «бытие», как у Маркса, а «битие». От слова «бить».
Веру жизнь била, не уставая.
Ролей не предлагали, только эпизоды. Жить негде. Зарплата – стыдно произнести. Одно название – актриса.
Вера экономила как могла. Однажды после спектакля не поехала домой, чтобы не тратиться на электричку. Осталась ночевать в кулисах, в уголочке между двумя стенками.
Утром встала до открытия, помылась в туалете, позавтракала в буфете: хлеб и чай. Буфетчица подарила ей сосиску.
Появились люди. Утренняя репетиция.
Вера была занята в спектакле и, стало быть, в утренней репетиции.
После этого пробного случая Вера стала часто оставаться в кулисах. Она добыла старый матрас и ватное одеяло. По утрам сворачивала все это в трубу и прятала в укромном месте.
Многие знали о нарушении, но помалкивали. И уборщица тетя Надя помалкивала. Жалела Веру. Входила в положение. Добираться после спектакля до вокзала. Потом электричка. И от электрички пешком два километра. И все это только для того, чтобы переночевать. А утром то же самое в обратном порядке: электричка, Казанский вокзал, театр. Не легче ли прикорнуть в кулисах и начать трудовой день без спешки, без боязни опоздать? К тому же экономия средств.
Вера практически переселилась за кулисы. В съемную комнату уезжала только тогда, когда выдавалось «окно». Не занята в спектакле, нет репетиций.
Жизнь шла одинаково, катилась по накатанной колее, не обещая радостей и неожиданностей. А куда же смотрел Иоанн Богослов? Он что, забыл про нее? Тогда зачем обещал…
Вера часто плакала. Не переставая плакать, доставала из-под подушки корочку хлеба и грызла. После блокады она постоянно ела.
Вера ела и плакала, а Иоанн Богослов в это время устремлялся куда-то по своим, более важным делам. Значит, надо ждать. И терпеть. «Неси свой крест и веруй». Так говорила Нина Заречная, тоже актриса.
Все Верины подружки-актерки, с которыми училась и работала, как-то устроили свою жизнь. Одни вышли замуж за своих сокурсников, другие отбили богатых мужиков у законных жен. После войны шла жесткая борьба за женскую выживаемость.
Вера строго помнила материнский наказ: не связывайся с женатыми. Жена – святое.
Подруги смотрели на Веру как на дуру. Жена – не стена. Можно и подвинуть. Все как-то устраивались в жизни. Снимались. Получали главные роли. И только Вера зависла во времени и пространстве. Ее судьба буксовала, как застрявшая машина.
Время от времени ее приглашали как типаж, она играла простых и положительных. Никаких.
Однажды после спектакля к ней подошел театральный художник Виля Кронберг. Спросил: не найдется ли у Веры три часа свободного времени, попозировать.
– Голая? – испугалась Вера.
– Ни в коем случае…
Вера согласилась. Виля назначил на конец недели.
Всю неделю Вера маялась в ожидании.
Виля – красивый и богатый, как в сказке. И холостой.
Вера позировала несколько раз. Сидела на стуле с прямой спиной. Очень уставала.