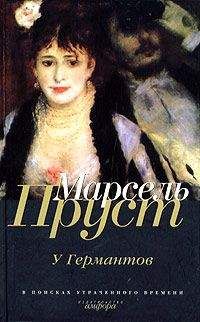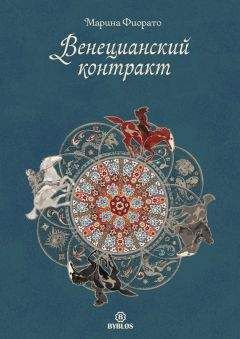В который раз уже вздрогнул. Почудилось – Катя укоризненно посмотрела с настенного застеклённого фотопортрета.
Как нелепо погибла Катя, как нелепо.
Череда гробов, могил…
Наболело… И вдруг боль прорвалась, будто б вытекла из него, растеклась, он будто бы уже тонул, пуская пузыри, в собственной захлёстывающей боли.
Каким самовлюблённым отстранением – нам-то ещё жить и жить! – сопровождаем мы умирание других… И как ничтожны перед шагом в забвение все те сиюминутные заботы, которыми мы засоряем дни.
Странно-то как, внутренняя боль его – снаружи, накатывает извне волнами, захлёстывает; так хочется пожалеть себя. Или – пуще того – оплакать. Дал волю эго… Но тут же вновь испытал ещё и укол стыда. Стыда за всё, что сделал и не сделал, за всё, что убеждённо ли, бездумно написал и наговорил?
Сколько раз намеревался начать с чистого листа в ближайший понедельник, но понедельник за понедельником исчезали в прошлом, а так и не начал жить по-другому: тему судьбы не переменить.
Спохватился… Итоговая расплата за то, что высокомерно ставил своё увлечение искусством впереди жизни? И конечно, заслонялся искусством от жизни-смерти, использовал его как щит: натуральная жизнь обращается в тлен, тогда как эфемерности искусства – вечны; великие художники и писатели и вовсе считали подлинной реальностью лишь самое искусство.
Ну да: «искусство сильней природы», и прочая, и прочая в том же духе.
Великие художники, писатели… наивно-выспренние их манифесты… И он, паразитирующий на чужом творчестве фантазёр-щелкопёр, он, не пожелавший подрезать себе крылышки, туда же?
Да, да, туда же: в зазор между сущим и постигаемым врывалось воображение, он фантазировал и фантазиями своими решительно менял картину давно известного. Да, вспомнил, ведь и в раннем детстве ещё он привык смотреть на лес за окном сквозь другой лес, морозом нарисованный на стекле, а привычка-то – вторая натура; вот и смотрел сквозь свои фантазии и на обыденность, и, конечно же, на искусство… В утробе его компьютера вынашивалась, а затем – из шелестяще-лёгкого дыхания принтера – рождалась особая, неповторимая – но! – подлинная реальность, никакие аргументы не убедили бы Германтова во вторичности, тем паче – во второсортности своего призвания, хотя он интерпретировал-препарировал чужое творчество. Художник – отвлечёмся от имён, веков, стилей, оценим всего лишь упрощённую методическую модель – стоит себе у мольберта, взволнованно поглядывает на натуру и пишет пейзаж, преображая то, что он, художник, переносит на холст, движениями своей души, которые, собственно, и управляют палитрой, кистью; а он, Германтов, тоже взволнованный, ещё как взволнованный-взбудораженный выдумщик-фантазёр, в свою очередь, со своей индивидуальной призмой-фантазией наготове стоит за спиной художника, именно – художника, не копииста, стоит и смотрит из-за спины его. О, тут есть болезненный, по крайней мере, щекотливый для нашего героя момент, есть, он, такой амбициозный, и вдруг – за чьей-то спиной, хотя… Он не признаёт ведь строгих иерархий, он уравнивает художника-творца с Богом, а уж за божьей спиной даже самому передовому – «безбашенному», по оценке иных студентов, – профессору-концептуалисту постоять не зазорно; впрочем, и заведомая скромность позиции не мешает ему на всякий художественный акт смотреть чуть-чуть свысока, будто бы с очередной, но приподнятой именно для него, Германтова, ступени непрестанно длящегося творения: написанный ли художником, ещё только пишущийся на холсте пейзаж или любой фрагмент этого пейзажа, скажем, облако, выписанное на холсте, для Германтова, в силу упомянутого уже уравнивания им статуса творцов, небесного и земных, остаётся таким же недовершённым и живым, таким же первозданным, как и облако природное, принадлежащее кисти Бога и отрешённо плывущее как раз сейчас за окном. Так вот, пусть и из-за спины живописца, а смотрит он на исключительную и досель небывалую, издавна сращивавшую внешнее и внутреннее, однако теперь ещё и подчинённую актуальному взгляду его, Германтова, натуру. О, поверьте, он возвысится и даст волю фантазии, он её, небывалую натуру ту, теперь по-своему перепишет: вытащит тайны из неё, даже те тайны, о которых не подозревал сам творивший её художник и… и потому вовсе он не на вторых ролях! В самом деле, кто такое оспорит? Разве искусство, весь необозримый мир искусства, где нет ничего раз и навсегда установленного, где во всякую эпоху заново сплавляются образы природно-предметной, внешней действительности с душевными порывами художников, «ведов» всех мастей и активных проницательных зрителей, – не восхитительная натура? И разве он, Германтов, фантазёр и концептуалист, не обладает холодностью и страстностью взгляда на эту всегда неповторимую, всегда для него магнетическую натуру – холодностью и страстностью, теми необходимыми контрастными качествами восприятия, которые объединить в своём ищущем взгляде способен только первооткрыватель-художник, сравнимый с Богом?
Конечно, художник, соискатель и открыватель новых гармоний, стоя перед мольбертом, в собственном, заострённом волнением-вдохновением восприятии внешней действительности сталкивался вдруг – будто в первый раз и в последний – с вечно подвижным божьим миром как с хаосом, преодолевал затем хаос на свои страхи и риски, превращал-преображал хаос в свой единственный вариант космоса, а наш уникум-искусствовед, наш мэтр-концептуалист, соглядатай тайных творческих импульсов, вроде бы приходил на готовенькое… Однако не всё так плоско; не страдая от скромности, Германтов выстраивал впечатляющие взаимосвязи условных, вроде как стоящих за спинами друг за дружкою ключевых для развития искусства фигур и пульсирующих преобразований хаоса в космос, космоса в хаос, снова – хаоса в космос… преобразований, которые замыкают в вечный поисковый круговорот творческие усилия Бога-создателя, Художника и, наконец, Истолкователя-интерпретатора; то есть о себе и немаловажной роли своей истолкователь-интерпретатор Германтов, понятное дело, не забывал; поскольку цепочка символических фигур, творящих-транслирующих самое искусство, и непрестанно его же преображающих, замыкалась в круг, то ситуативно получалось, что и сам Бог, небесный наш Бог-творец, на очередной стадии круговых преобразований хаоса в космос вполне мог очутиться за германтовской спиной.
Короче, космос никому не дано было присвоить или, пуще того – закрыть; само же искусство, воплотившее и продолжающее воплощать во всём корпусе произведений своих – старых ли, новых – многовариантный космос, никогда, повторим, для Германтова не застывало, он ведь воспринимал искусство как околдовывающий, прекрасный, меняющийся в наших ищущих глазах мир.
Ну а сам он, профессор Германтов, он же, напомним, ЮМ, добровольно – но не без оглядки на выпавший ему жребий! – подключённый к этому возвышенному метаморфизму, был во власти странных притяжений-отталкиваний…
Да, он ощущал, конечно, внутренний дуализм, порой болезненно ощущал, но человек творческий всё же давненько победил в нём человека обыденного; он использовал искусство как щит, да, благодаря искусству интуитивно отстранялся не только от плакучих мыслей о смерти, на его глазах косившей родных, знакомых, но и от своенравия самой жизни, бьющей наотмашь и опрокидывающей, пленяющей, опутывающей, как ядовитыми лианами, связями и привязанностями. Не доверялся страстям, довольствуясь пунктиром влюблённостей, которые сулили лишь краткие, зато житейски безопасные взлёты освобождения; избегал любви, да, избегал, опасался мук и подвохов чувств, спонтанно слепых поступков, тех, последствия коих и приблизительно нельзя было просчитать. Он не желал, да и не смог бы, наверное, если бы и пожелал, отдаваться всецело страсти, терять голову от любви; в решающую минуту, готовый будто бы сжечь мосты, сам себя он хватал за фалды. Такой вот тревожно сомневающийся, по-научному, психастенический был у него характер; делая первый шаг навстречу любви, он умудрялся не забывать о путях отхода, а усложнённые цепочки мыслей-остережений удушали мечту, обескровливали живое чувство…
– Ты ни горячий, ни холодный, Юра, ты какой-то прохладно-тёплый, – прижавшись, словно измеряя температуру, шептала Катя. – И ещё ты обтекаемый, тебя ничего не задевает, – с обидой вздыхала; но когда это было!
А уж после Кати – да, да! – никаких обременительных союзов, никаких. Плыл и плыл по течению. Зато в текуче-невнятных, ничем личной свободе не угрожавших, будто бы промежуточных, хотя и волнующе сопровождённых женскими лицами обстоятельствах – Лида, Вера, почувствовал, и сейчас, как если бы, оставаясь прежними, телесно-зримыми в памяти, перевоплотились в глубинные фантомные боли, не покидали его; так-так, внезапно память-паучиха вплетала в паутину прошлых жизненных сюжетов новые, радужно взблескивавшие нити, и внезапно же прорезались и непредсказуемо – самопроизвольно? – закручивались сюжеты идей, да, как-то сами собой прорезались, закручивались! И озарялись вдруг горизонты: встреча с нежданно-непредставимой женщиной заново зачинала и по изменённой траектории запускала жизнь. Но сейчас он спохватывался, отказывая жизненным сюжетам и в толике самостоятельности и самоценности. В который раз он мысленно повторял: влюблённости важны были для него вовсе не сами по себе, влюблённости одаривали вдруг озарениями и, конечно, тонизировали сознание, высвечивали заманчивые идеи и помогали ему находить себя; и что тут новенького? Всё как у поэтов, вдохновляемых на лирические подвиги-откровения встречными ли, попутными, задним числом распределяемыми ушлыми литкритиками по творческим периодам, музами; как у поэтов?