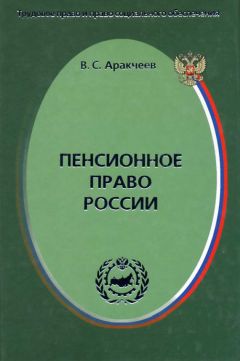И вот я иду по утреннему, окутанному туманом городу, и в голове у меня такой же белый, плотный туман – ни одной мысли. И я радуюсь, и гоню от себя подобие всякой мысли. Открываю дверь вашего дома, переступаю порог и слышу:
– Слава богу, Лизонька, что ты так рано пришла! Мне обязательно нужно как можно скорее в госпиталь. Не давай ему, пожалуйста, скучать, уходить в болезнь: он такой мнительный, – извинилась, улыбаясь, Татьяна Сергеевна и, поцеловав меня, тихонько прикрыла за собой дверь.
Я осталась в вашем доме, как в пустыне, одна, боясь заблудиться. И тут же услышала нетерпеливый твой голос:
– Лиза, идите сюда!
Я не пошла, притворилась, что ничего не слышала, стала готовить тебе завтрак; увидела, что керосинка грязная, намочила керосином тряпку и с радостью перепачкалась вся керосином. Но вот опять, как набат, над моей головой:
– Лиза, ну что вы там? Лиза! А то я сейчас встану.
Тебе нельзя вставать – я это хорошо знаю. И я с грязной тряпкой бросаюсь к тебе в спальню и останавливаюсь на пороге.
– Что это у вас? – удивленно спрашиваешь ты.
– Я чищу керосинку, она такая грязная.
– Бросьте ее, ради бога! Здравствуйте, – так тихо и светло сказал ты. – Как прошло дежурство? Ну идите же сюда! Лиза!
– Я сейчас, – говорю я и показываю тебе в свое оправдание черную от сажи и керосина тряпку, – сейчас, – и убегаю на кухню. Там я долго мою руки, они все пахнут керосином. И снова начинаю готовить завтрак и опять слышу:
– Лиза!
Я достаю из буфета скатерть, посуду и переступаю порог твоей комнаты.
– Я не хочу есть! Татьяна Сергеевна меня только что накормила, – обманываешь ты меня. – Сядьте, Лиза, оставьте в покое эти тарелки. Садитесь и расскажите, что вы делали. Я так соскучился!
Я, видно, изменилась в лице, побледнела, стала совсем не живая. Ты понял мое смятение чувств, ты всегда понимал меня лучше меня самой, но это не мешало нам всегда оставаться чужими, потому что для меня ты всегда был непонятным. Я создала себе в твоем образе кумира и поклонялась ему, а ты был просто человеком.
В этот день ты лежал тихо, с закрытыми глазами и просил меня читать вслух. Ты открывал глаза только для того, чтобы взглянуть на часы, и все спрашивал у меня: как я думаю, задержится сегодня Татьяна Сергеевна на работе или нет? Казалось, что проще – больной муж ждет жену, а я обиделась, и ты это заметил.
– Лиза, вы ошибаетесь, – вдруг совершенно неожиданно для меня сказал ты. – Я не Татьяну Сергеевну жду, просто я хочу знать, сколько еще часов мы пробудем вдвоем.
От этих твоих слов я совсем заблудилась в самой себе. А ты, как ни в чем не бывало, опершись на локоть, стал рассказывать, как когда-то мальчишкой лазал разорять гнезда…
И опять я гнала от себя все мысли и зубрила анатомию у мамы, а ночью дежурила в своей палате. Ах, моя палата, мои дорогие дети – так я, девчонка, называла своих раненых, искренне чувствуя себя их матерью, ведь у нас, женщин, с детства живет инстинкт материнства. Даже Татьяна Сергеевна ничего не заметила, а мои раненые почувствовали.
– Сестричка, – спрашивал меня то один, то другой, – ты что не в себе? Может, Алеша раненый, а ты от нас скрываешь?
Мы знали все друг о друге – они обо мне, а я о них: где родились, как росли, учились, любили, если кому довелось испытать это счастье, как встретили войну, как проводили на фронт, как там били проклятых немцев. Они все знали мою мать, знали Татьяну Сергеевну, знали тебя.
– Сестричка, на тебе лица нет. Что случилось? – только и слышала я в тот день и сердилась, не имея права на них обижаться.
– Ах, оставьте, не каркайте!
…Утром я считала ступеньки вашей лестницы. Я еще не успела подняться – как навстречу Татьяна Сергеевна:
– Лизонька, ты иди домой, отдохни, я нашла домработницу, а то ты совсем измоталась.
Я вышла на улицу и глубоко вздохнула.
Несколько дней, томясь и мучаясь, я не ходила к вам. «Нечего тебе там делать, – убеждала я себя. – Не было домработницы – вот тебя и попросили заменить ее. Просто Николай Артемович любит говорить людям приятное, еще Алеша говорил мне это, особенно если человек Николаю Артемовичу в какой-то степени нужен. Нашли домработницу – и о тебе забыли», – говорила я себе.
Письма от Алеши я тогда получала каждый день. Так, за три дня я получила три письма. Я читала их теперь по одному разу, а не перечитывала, как раньше, до тех пор, пока не выучу. Читала небрежно, будто бы отбывая повинность, и больше не носила их с собой, а стала складывать в ящик туалетного стола. На меня напала тоска, напала и крепко скрутила по рукам и ногам. Мне везде казалось темно и душно: и дома, и в палате, и около моря. На четвертый день я получила от Алеши четвертое письмо и разозлилась на него: «Ну что он расписался! Делать ему, видно, нечего там!» Разорвала конверт, вынула беззащитные листки, мелко исписанные Алешиным почерком, читать не стала, так только мелькнуло в глазах: «Любимая!» – ну, и все в таком же роде… Я свернула нечитаное письмо и бросила его на диван, а сама упала рядом и разрыдалась. Обливая слезами его письмо, я плакала не о нем.
Я не слышала, как вошла Татьяна Сергеевна. Когда она зажгла свет, я вскочила, готовая обругать мать, сорвать на ней свое зло, и обиду, и еще что-то неясное, что клещами давило мне горло, – я была уверена, что пришла мать. Но около меня стояла Татьяна Сергеевна и разглаживала облитое моими предательскими слезами в ту минуту совсем мне не нужное Алешино письмо.
– Ну что ты, девочка! Он в училище. Слава богу, жив и здоров. Зачем же так мучить себя? – присев рядом со мной, говорила Татьяна Сергеевна. – Я замоталась, а ты все не идешь и не идешь. Николай Артемович не захотел без тебя обедать, погнал меня за тобой. Прибыла новая партия раненых – ты же знаешь, – и я буквально не отходила от стола два последних дня. Ну, вот и загорелись лампочки, – засмеялась Татьяна Сергеевна (это вы с ней так говорили о моих глазах). – Это хорошо, что вы с Алешей так любите друг друга, – говорила Татьяна Сергеевна. – Но иногда мне становится страшно за вас обоих: нельзя все время жить на такой высокой ноте, нельзя, понимаешь? Ну, об этом мы поговорим по дороге. Идем! Николай Артемович с голоду умрет, пока мы доплетемся.
Еще не войдя в твою комнату, а только услышав голос «кто там?», я поняла: все, что было, – есть, и ужаснулась, что пришла в старом, измятом платье, но ничего уже сделать было нельзя, и я тогда, сказав Татьяне Сергеевне, что замерзла, накинула на плечи свою новую шубу (подарок Татьяны Сергеевны). Она очень мне шла, так все говорили. Татьяна Сергеевна вошла в спальню раньше меня и рассказала тебе, что нашла меня одну в темной комнате, обливающую слезами Алешино письмо. Ты листал томик Лермонтова и хмурился… А когда я вошла, протянул ко мне обе руки, как два больших крыла, крепко сжал мои замерзшие пальцы и сказал громко, ничуть не боясь Татьяны Сергеевны:
– Лиза, я так по тебе соскучился!
Но Татьяна Сергеевна даже бровью не повела, а весело продолжала хозяйничать за столом. Мы этот вечер провели втроем. Ты так был нежен с Татьяной Сергеевной, так ласков со мной! Ты был ровен и весел и смешил нас бесконечными забавными историями. Я искала в интонации твоего голоса, в отдельных словах что-то предназначенное для меня одной и ничегошеньки не находила.
Было уже поздно, и Татьяна Сергеевна сказала, останавливая каскад твоего остроумия:
– Завтра такой трудный день… Может быть, Лиза, ты не пойдешь домой, и я тебя устрою в Алешиной комнате?
Но и на это предложение Татьяны Сергеевны ты не откликнулся, и я заторопилась домой, убеждая Татьяну Сергеевну, что мне обязательно надо идти.
Я хотела остаться одна, а оставшись, испугалась и отправилась ночевать к матери. Мать уже спала, я еле ее добудилась. В сторожке стоял винный перегар, на столе поблескивали рюмки, лежала копченая тарашка… Мать так была пьяна, что никак не могла понять, зачем я к ней пришла ночью, а потом, истолковав это по-своему, заголосила:
– Ой, да сиротинушки мы с тобой обе, как былиночки в поле клонимся! Некому нас поддержать да утешить… Ой, Степаныч, да друг мой сердешный! Ой, да возьми же ты меня под свое левое крылышко, на кого ж ты меня спокинул! Ой ты, Алешенька, зять ты мой рассердечный, да на кого ж ты нас спокинул!
Ее пьяные причитания по отцу, а потом заупокой по Алеше полоснули меня по сердцу, и я, отшатнувшись, захлопнула дверь.
– Лизка, ты куда? – кинулась за мной мать.
Но я бежала, бежала, не оглядываясь. Нет, не от матери, а от дьявольской игры, от фальши, которая вошла в мою жизнь, бежала и твердила:
– Алешенька! Алешенька! Алешенька!
Мою душу не успокаивало родное имя, но я верила: не может же мой Алеша оставить меня сейчас, когда он мне просто необходим.
– Алеша! Алешенька! Алеша! – тихонько звала я.
Зашла я в ваш двор – он был по пути. Двор был пустынным, совсем не таким, как днем, – белым от снега, чистым. Подошла к крану, тронула его рукой. Здесь я первый раз заговорила с Алешей. Потом постояла возле клуба, как тогда в то утро стояли мы с ним и с Шурочкой. Потом пошла вниз по крутой улице на бульвар к морю. Город был пустой совершенно, даже собаки не встретилось мне по пути. Я подошла к морю, но спуститься к воде побоялась. Кругом было бело от снега, а море было черное, невидимые волны стонали, бухали, вздыхали тяжело… Это было все так мрачно, что мне стало страшно, и я бегом выбежала на главную улицу. За закрытыми дверьми аптеки теплился слабый огонек. Я ему так обрадовалась, будто друга встретила, и пошла спокойно и тихо. Навстречу патруль. Козырнув, наверное, дурачась, парни спросили меня, откуда и куда я иду. Я ответила, что иду от матери домой. Они навязывались мне в провожатые, я еле-еле их упросила избавить меня от этой любезности. Я хотела быть только с Алешей, с ним одним. Шла, не замечая улиц, и вела бесконечный диалог между собой и Алешей. Говорила то вслух, то мысленно и придумывала, угадывала, что бы мне ответил Алеша.