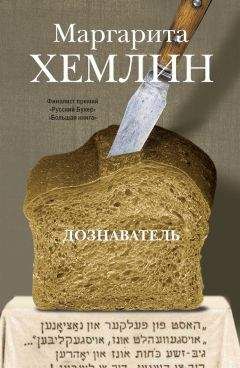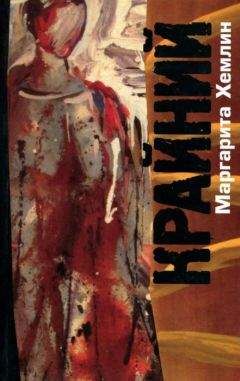Ящик с Шкловским отставил.
С Рувимом тоже.
С Доркой трохи приоткрыл и обратно засунул.
А вот два – с Розкой и с Раклом – вытащил прямо на всю ширину-длину. И получилось, что они на пару плохо в пазах ходят, а нужно непременно до них подстегнуть ящик Шкловского. От так. Рядышком поставить и все три разом разворошить. Именно что разом.
Весь смертельный сыр-бор разгорелся по причине непримиримой ревности Ракла. Он при власти, кого захочет прибьет и скажет, шо так и було.
Ему выкрадать Шкловского ни к чему. Ему, наоборот, не покров ночи в удовольствие – ему на весь город гевалт в удовольствие и, между прочим, по закону.
Теперь – Розка. Допустим, она не дура. Очень не дура – такого мужика зацепила – Ракло это ж сила! Она без него никто. Шлендра она без него, а не наробраз. И вот она рискует собой в буквальном смысле и мужу родному, пьяному и бешеному, кается про Шкловского. И он ее прощает, как в театре.
Ну ладно. Тоже допустим. Мне про любовь известно много. С чужих осведомленных слов, но допустим. А главное – зачем она после такого прощения и буквально на краю пропасти меня хватает и назначает искать Шкловского? Да так смело назначает! Прямо мобилизация какая-то.
И еще – а мужу ее, Алексею Васильевичу, не интересно, куда украли Шкловского? Как раз у Шкловского с Раклом – дружба и, наверно, делишки кое-какие глубокие, и дом Ракло Перецу отжалел богатый, и автомобиль свой ему давал кататься на глазах всего Чернигова. А у Розки с Шкловским что? Чувства? Ха-ха, как говорится.
Я присел на лавку в самом конце Марьиной рощи. Уже обошел ее всю – от края до края, и вот, обессиленный мыслями, я присел для подведения хоть какого, а результата.
Недалеко виднелся дом Шкловского. Высокая крыша с трубой выделялась на фоне неба с звездами. Я обратил внимание мысленным взором – дыма нету. Нету дыма. Печка не топится. Наблюдение меня обрадовало. Наверно, Дорка и Рувим решили не дожидаться назначенного часа и убрались кто куда вместе с Мариком-не-Мариком. Хорошо, что возвращусь в пустой дом без лишних слов. К тому же голод заставлял остановиться на данном этапе и вернуться к жизни и пище.
Дома и правда Дорки с Рувимом не было.
А Марик-не-Марик – таки был. Чистые волосы волнами разметались по громадной мягкой подушке. Лицо утопало в вышитых розах и васильках с мелкими завитушками тонкой зеленой ниткой. Руки выпростаны поверх одеяла, пятерни расправлены, и каждый палец – прямой.
Прямизна как раз меня испугала. Может, умер хлопец, и Дорка с Рувимом его бросили на мою последнюю похоронную заботу? Гады! Сюсюкали с ним, сюсюкали, а как на кладбище оформлять за гроши по-человечески, так и кинули. И я хоронить не буду. Не мой дом, значит, и все тут не мое. И дело не мое – хоронить отсюда всяких.
Но один глаз Марик трохи-трохи приоткрыл. И рот немножко перекосился. В ту же минутку раздался его смех.
Он сел прямым рывком, свалил с себя одеяло. Забинтованный живот от веселья ходил ходуном.
– Шо, спугался? – Голос оказался бодрый и разборчивый. Между прочим, не то что раньше.
– Разлегся тут, понимаешь! Давай вставай! Где твои сюсю́качи? Дорка и Рувим? Намыли тебя, одели во все чужое и чкурнули?
Марик вытаращил глаза, и я вроде вернулся на много лет обратно, в наше раннее остёрское детство.
– Лазарь, мне на них начихать! Не обижайся. Я от голода-холода не в себе находился. А теперь в себя вернулся. Лазарь, честно тебе говорю, я ничего не знаю. Сам удивляюся себе. Проснулся – а тут никого. Баба самашедчая, которая меня намывала-начесывала, с ложечки кормила, кричала сильно, потом стихла, дядька… Ты говоришь – это Рувим? Так Рувима я вспомнил, но тот же ж Рувим молодой был, а этот старый, хоть шо-то такое напоминает, конечно, может, и Рувимчик, тоже кричал, еще какие-то голоса были. Я тут под кровать залез, перележал, пока успокоилось. А в окно выглянул с краю – ты шкандыбаешь. Я положение и принял – навроде покойника. А ты купился! Ну шо, вечерять надо… Набинтовали тут меня, як мотанку… – Марик зацепил пальцами бинты, но сделано крепко, не поддалось. Махнул рукой: – Хай! Для теплоты. Честно признайся, Лазарь, ты поверил, шо я умом тронутый? Пове-е-ерил! Не было ни одного такого человека, шоб не поверил!
На кровати сидел прежний Марик Шкловский. Болтал ногами, только такими чистыми ногами, каких у него сроду не виделось.
И вони от него не исходило.
Я подобрал остатки продуктов, вывалил на стол, прямо на белую мережковую скатерть. Нарочно, для лучшего классового сближения с Мариком.
Сели пировать.
Я знал, что пир этот, может быть, последний в моей нынешней жизни. А Марик от счастья аж заходился. Думал – на века он так жрать будет теперь.
Молчание мое он не замечал, говорил хоть неразборчиво от набитого рта, зато полезно для меня.
Марик действительно находился в доме моих деда и мамы в момент, когда туда ворвались в поисках врача струковцы. Звуки происходившего тогда стерлись из памяти Марика, помнит только занесенную над его животом шаблюку бандита. Причем помнит живых деда и мою бедную маму, которые махали руками аж под тою шаблюкой, чтоб струковец тую шаблюку проклятущую им на руки опустил, а не на хлопчика невинного.
Дальнейшее Марик не помнит.
Очнулся в телеге, в сене, под коркой из своей крови рядом с несколькими убитыми трупами. Помнит, что кровавую корку пополам с сеном рукой ломал-ломал, чтоб изнутри оттуда освободиться. Мужик-возчик услышал такое дело, посмотрел на Марика как на случайно живого и скинул с повозки. Поехал дальше – наверно, хоронить порученных мертвецов.
Марика подобрали красноармейцы. Он очутился в киевском госпитале и там провел в тумане чуть ли не полгода.
В дальнейшем при постоянной перемене власти с разных сторон он окончательно затерялся в мире и почти утратил человеческий облик.
Недавно с группой таких же товарищей пришкандыбал в Чернигов. И буквально на второй день состоялась встреча его со мной.
От движений руками по столу и в воздухе повязка на животе немножко растрепалась. Я выразил опасение, что надо б аккуратнее.
Марик радостно ответил, что как раз и не надо. А надо постоянно трохи ковырять. А то не проживешь. Подавать совсем не будут.
Он разомлел от еды и мечтательно просипел:
– Лазарь, наверно, теперь щастя настало. И не надо ничего сверху – и так у нас с тобой все есть. И хата, и богатство… – Марик повел рукой круг себя, волной повел, вроде горы осматривал. – Будем жить и радоваться. Ага ж? А если шо закончится – жратва там или дрова, – ту самашедчую, шо меня намывала своими слезами дурными, или Рувимчика идиётского попросим. То ж Рувимчик был щас? Постарел, а все равно ж – Рувимчик? Они ж нам все дадут. А? Правда ж?
В его чистых отмытых руками Доры глазах светилась такая большая, такая светлая надежда, что я не смог зачеркнуть ни одно его слово. Ни одно.
И я сказал:
– Марик, ты прав! Много еще надо постараться, чтоб забрать обратно у беспощадной судьбы наши с тобой детские надежды. Один я не потяну. Ты мне должен помочь. А теперь, Марик, хватит передо мной делать цирковые номера! Ты не в банде беспризорной. Ты теперь опять человек. И если человек, так выкладывай всю правду про невсамделишнего своего папу Шкловского и тому подобное. И учти. Настоящая дружба может быть только без брехни. Ну!
Марик опустил свою голову. Сопел, шмыгал пустым носом. В общем, сдаваться не желал.
Я для сближения снял с себя душегрейку, набросил Марику на плечи. Он быстренько просунул куда надо руки и погладил на груди. Расценил как товарищеский чистый подарок.
Конечно, с душегреечкой придется попрощаться, но на кону стояла правда.
Как уже говорилось мной выше, Шкловский появился в Остре в облаке тумана.
Люди что знают про человека? То и знают, что он сам про себя распространяет. Верят, не верят, а знают именно измышления самого измышляющего. Тем более когда у всех мозги набекрень от текущих куда попало событий.
Говорил Шкловский, что ездит в Киев – значит, ездил. Намекал, что гуляет там с бабой – значит, гуляет. Считалось, что в пуговичной артели заправляет – значит, заправляет. Называл Марика сыном – значит, сын и есть.
Марик родился и рос в Козельце. И звали его Марик, но фамилия ему была от родителей Беленький. Родителей он утратил одновременно в сильно несознательном возрасте, воспитывался у дальней родни. В числе родни находился парень Суня, увлеченный революцией и прочим.
Этот Суня в один распрекрасный денек привел в дом Шкловского и говорит:
– Вот мой близкий товарищ. Он пережил большое горе. Ему нужен на место погибшего сына новый хлопчик. Если б усопшего сына звали не Марик, я б еще подумал, но его звали таки Марик, как нашего сиротку. И по возрасту они полные ровесники. Так, может, пускай наш Марик будет Марик Шкловский? И товарищу хорошо в утешение, и нашему сиротке тоже хорошо, у него образовался отец, который в дальнейшем за него ответит перед людьми, а заодно и перед Богом, который в курсе дела.