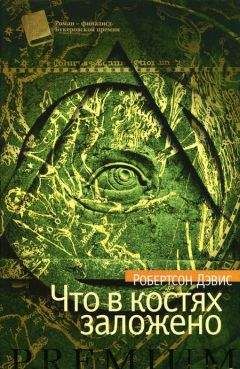– Кстати, тут недалеко Зойка Сорока с какими-то двумя малыми сидит, я видел, когда проходил.
Бурый пропустил сообщение мимо ушей, а я вдруг подумал: «Ого, Шнурок, видно, отыграться хочет, это ж чистейшей воды провокация!»
– Может, того? – робко спросил Шнурок через минуту.
«Ну что ж ты за тварюка такая!» – хотелось в сердцах крикнуть ему.
Но Бурый только поморщился.
– Не надо, – угрюмо проворчал он, отмахнувшись, как будто отметая идею внедрения в его запретный интимный мир. Но по тому, как Бурый начальственно возложил ладони на колени, всем участникам подвального заседания стало вдруг ясно, что в его голове происходят непростые тектонические сдвиги. За два месяца до армии Петр начал встречаться с этой девушкой, и хотя не было никаких взаимных обязательств, она в кругу местных хулиганов некоторое время считалась его девчонкой. Но месяца через три-четыре ее уже видели с другим парнем, таким же драчливым и буйным, как и сам Бурый.
На какое-то время установилась напряженная тишина. Наконец взрывоопасная натура Бурого не выдержала:
– Знаешь, че, Слава, – неожиданно обратился он к Шнурку по имени, – у меня есть идея. Сходи-ка ты к Зойке да пригласи ее к нам. Аккуратно замани, скажи, мол, терки есть.
– Одну?! – оторопел Шнурок, делая вид, что ожидал веселья, а вовсе не гнилых разборок, – она не пойдет.
– Одну, – твердо заявил Бурый, – и не говори, что я тут. Перебазарить с ней хочу. Организуй, братан, ты ж умеешь.
– Ну-у, – неуверенно протянул Шнурок, – я попробую.
Я не верил, что она придет. И вздохнул бы с облегчением, если бы Шнурок возвратился один. От этого ненормального всего ожидать можно… Но Шнурок превзошел самого себя, через несколько минут об этом возвестило звонкое грациозное для такого помещения, цоканье каблучков. Когда затем я услышал, как коротко лязгнул засов, сердце у меня сжалось: скандальных разборок не миновать.
Даже при тусклом свете лампочки, с дальнего угла освещавшей унылое помещение, девушка казалась мне миловидной. Глупый, беспечный мотылек с недавно оформившимися выпуклостями маленьких грудей и тонкой, совсем как у ребенка, талией. Девушка застыла в нескольких шагах от восседавших бродяг – она увидела Бурого и все поняла.
Петр поднялся ей навстречу с наигранной приветливостью, успев наполнить до краев водкой стограммовый стакан. Приближаясь, он ухмылялся, все больше превращаясь в привычного для нас, вероломного хама, а его большая тень, отбрасываемая лампочкой, накрыла ее, как грозовая туча накрывает землю.
– Выпьешь? – произнес он вместо приветствия вкрадчивым голосом.
Девушка не ответила, но, молча обхватив стакан обеими руками, неожиданно приложилась к нему и осушила. Косой желтый свет освещал только часть происходящего, но в какой-то миг мне сбоку стало хорошо видно, как содрогнулась ее грудь и на скривившихся от тяжелого напитка девичьих губах остались капельки жгучей жидкости, которые она торопливо вытерла, как-то неестественно робко пошевелив губами. Она продолжала двумя руками удерживать стакан, словно защищаясь им от окружающих. Косой луч приглушенного желтого света осветил часть ее лица, и я увидел в ее глазах неподдельный ужас, смешанный со смиренной готовностью принять неизбежное. Мне было жаль ее в этот момент, но ведь все считали это делом их двоих. Никто не проронил ни слова, и подвальчик превратился в пузырь с непрерывно накачиваемым горячим воздухом. Вот-вот его тонкие стенки не выдержат, и произойдет чудовищный взрыв. Бурый теперь походил на большую рептилию, подземного минотавра, которому привели добычу на растерзание. Удивительно, но и она почему-то вела себя согласно роли: покорно и с неотвратимой обреченностью жертвы. Ее озноб прекратился, она теперь, как приговоренный к казни, казалась абсолютно спокойной в изумляющей нас красноречивой готовности принять удар судьбы. Бурый взял у нее из рук стакан, долгим пронизывающим и каким-то маслянистым взглядом попытался заглянуть девушке в глаза, но она слегка опустила голову и с тупой отрешенностью уставилась в одну точку. Наконец он заговорщицки, будто стремясь придать своим словам гипнотическую силу, что-то прошипел ей в самое ухо. Девушка в ответ беззвучно опустилась на колени, неожиданно легко и безучастно повинуясь, как будто и ждала приказа. Если бы она сопротивлялась, я бы, возможно, вступился за нее, но этого не произошло – обескураженные, мы могли лишь наблюдать за происходящим. Победитель с очевидным форсом расстегнул брюки – в застывшем от напряжения пространстве мы услышали скользящее движение молнии. Все беззвучно застыли на своих местах, как каменные изваяния. Насильнику, вошедшему в раж, уже явно было мало достигнутого. Ничто тут не напоминало секс, оно было просто грубым актом власти завоевателя над пленницей, как бывало в древние времена при захвате городов.
Наконец Бурый с похотливым стоном отстранился и жестом владельца гарема поманил Шнурка. Тот перепуганно замотал головой.
– Вперед, я сказал! – грозно зарычал Бурый.
И только когда Шнурок оказался рядом с девушкой, заняв место тюремщика, в моей голове взметнулась мысль, перемешанная самыми гнусными ругательствами, которые я только знал: «Влипли! За такое ж срок дают!» Но возбуждение и хмельные пары постепенно заглушили голос разума. И хотя я уже смутно понимал, что в этом присутствует слишком много порочного и убогого, доставшегося человеку от зверя, оно, это сатанинское ощущение свального греха, за который не надо нести ответственности, захватило меня целиком.
Я осознавал, что вошел во взрослый мир не с парадного входа, скорее проник туда тропой Люцифера, сквозь черный пролом, о существовании которого большинство людей имеет очень смутные представления. От этого понимания мне стало жутко.
Остальное происходило, как в невесомости. После ее ухода я глотал водку с остервенением, пытаясь забыться. Мне было мерзко и сладостно одновременно.
Девушка никуда не заявила. И я долго бы еще томился от тошнотворного самобичевания, если бы не долгожданное извещение из военкомата – предстояла иная, полная приключений и смысла жизнь. Смысл нужен был мне, как воздух, ибо томящийся во мне зверь уже задыхался в тяжелой клетке из морали, общественных правил и законов. Он отыскал меня, несведущего, как ищейка по запаху, внезапно и неотвратимо, не дав ни опомниться, ни подумать. И имя этого смысла было – война».
«Ого, да этот Шура тот еще орел, дел успел наворотить предостаточно», – подумал Лантаров, оторвавшись от исписанных мелким почерком страниц. Шура представлялся ему кроссвордом, который он поступательно разгадывал. Но на деле все выглядело совсем не так, как в журнале, когда черкаешь карандашом, заполняя пустые клетки. Чем дальше он продвигался, тем меньше понимал…
Оставалось лишь одно – продолжать делать открытия.
5
Времени было предостаточно, и Лантаров опять погрузился в исповедь того, кто надел костюм праведника и претендовал на роль его учителя. Кириллу казалось, что, отыскав несоответствия избранному образу, он получит определенные преимущества. Интуитивно в недостатках другого он искал возможности оправдать свои слабости.
«– Сынки, знаете, чем ВДВ отличается от любых других родов войск?! Так вот запомните: ВДВ отличается отношением к слову «убивать»!
Это были первые слова, которые я услышал в Гайжюнайской учебке, одной из самых знаменитых кузниц десантно-штурмового персонала для афганской войны. Они донеслись до меня, как зловещее заклинание, как манифест, и тут же резкий холод прошелся между лопаток. Я внезапно понял – все это по-настоящему, всерьез. Мы содрогались, загипнотизированные, глядя на безумные, одержимые глаза офицера, горящие животным огнем, как раскаленные угли, и улавливали его полное соответствие этим магическим словам. Но я незаметно для самого себя проникся симпатией к этому монстру, а мрачное обаяние слова «убивать» околдовало меня. И сами мы учились произносить это слово заново, вслушиваясь в его металлическое, вороненое звучание, потому что только тут неожиданно осознали, что до этого совсем не знали его тайного шифра. Мне казалось, что мы – избранники Бога. Как же жестоко я ошибался!
К моменту, когда я оказался в пропитанных вечной сыростью литовских лесах под Каунасом, трубный зов войны уже прокатился по необъятной советской империи. Но и у меня самого не было никакого сомнения в том, что война – это мое, специально для меня выдуманное дело. Нет смысла тратить время на рассказы, как отменная физическая подготовка разрозненных индивидуумов конвертируется во всеобщую готовность разрушать, сокрушать и уничтожать. Умопомрачение приходит не сразу, боевые мутанты вырастают от повседневного многократного поглощения идеологических пирожных, обильно политых мифическим шоколадом будущих наград и мирского признания. Не потреблять эту пищу невозможно – она подается в коллективном корыте, едоки же доводятся до такого состояния, когда в дифференциации нет необходимости. Нас произвели в боевые пешки на шахматной доске державы. Но что это я?! Я был вполне доволен, выкапывая слитки особенно блестящей породы из глубоких карьеров ощущений после сообщения о том, что мы рассчитаны на три минуты боя. Я не знал, что то была всего лишь слюда, но ведь блеск у нее на солнце не хуже золота.