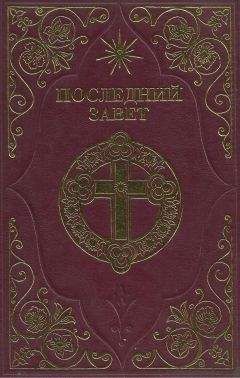– Зачем я устраиваю балы-маскарады? что бы на них танцевали! а не сидели по углам! – рявкнул Седрик. – Ты что, танцевать не умеешь? Научить?
– Вы серьезно, сэр?
– Ну да. Вальс?
– Ох нет, сэр, я не танцую с теми, кто меня бил, – Тео засмеялся – истерично так, хотя ужасно больно было смеяться. Седрик кинул в него книгой со стола, и Тео выскочил, и пошел искать Матильду, абсолютно счастливый.
Она сидела на лестнице в фойе, накручивала волосы на палец.
– Привет, а вот и я. Меня не было, как Рипа ван Винкля – сто лет?
– Ну да, – она обернулась, собираясь сказать что-нибудь колючее, мелкое, как укол от кактуса, и увидела его разбитую физиономию, кровь Тео смыл, найдя по пути туалет. – О, Господи, Тео! Ты что, упал где-то?
– Да, свалился с лестницы в той библиотеке, знаешь, с книжной такой, она сама двигается вдоль полок, стал на ней кататься, и упал… а почему ты здесь? Почему ты не пришла в библиотеку?
– Меня нашел Джонатан-Риз, и потащил танцевать.
– Ты отдавила ему все ноги?
– Конечно.
– Молодец девочка. Прости, я не отдал твой подарок Санта-Клаусу, забыл, я вообще сегодня блистаю – опоздал, напился, пропустил мессу, упал с лестницы… и подарок мой, наверное, тебе не понравится.
Он вытащил из сумки огромный розовый альбом, весь в блестках; альбом закрывался на крошечный золотистый замочек; Тео вручил ключики, маленькие, как пинетки.
– Что это?
– Альбом принцессы. Ну, открой же.
Она открыла. Внутри все было в кружевах, пайетках и пахло розами.
– Смотри, в нем триста шестьдесят страниц; на весь год; куча наклеек; все такие блестящие; а еще можно рисовать, смотри, карандашики – золотой, серебряный, розовый; а еще вести дневник; а еще здесь предсказания на каждый день, триста шестьдесят, на весь год… тебе не нравится?
Она была поражена. Однажды в «Красной Мельне» он ушел в туалет, она стала смотреть его книги и тетради, разбросанные на столе, и увидела среди всего прочего каталог драгоценных камней – она пролистала – один камень, рубин в форме розы был обведен фломастером – красным – она затаила дыхание, и закрыла каталог, и спрятала его обратно под учебник алгебры; я дура, сказала она сама себе, он подарил его своей маме или сестре, или Артуру; я в его жизни всего полгода; просто девушка, чудачка, гожусь ему только в старшие сестры; он никогда даже не думал обо мне, как о возлюбленной; альбом был красивый, невероятный просто; в детстве она бы пошла ради него на преступление.
– Спасибо, – она вздохнула и подумала мстительно – все сюда про тебя напишу, и фоток наклею, усы подрисую золотые. – А я твой отдала Санте.
– О, я хочу подарок.
– Тогда надо идти в зал и танцевать.
– Ну, тогда подари мне один танец.
– Учти, наступишь раз на ногу, я наступлю два…
Они пошли в зал; там было жарко и пахло елкой, и селитрой от бенгальских огней. Оркестр играл Роя Орбисона «Oh, my love»; хотя Матильда не знала, точно ли это песенка Орбисона, у нее на диске она была в его исполнении, сказочная и страстная одновременно; «хочешь, фокстрот закажу, чтобы ты совсем опозорился?» «нет, мне эта нравится» сказал он так тихо и славно, и обнял ее, так нежно, ласково, как только мамы умеют, будто все понял; уже прочитал весь дневник – она и вправду будет вести дневник принцессы; все про него – как он далеко от нее, навсегда; ее розовый принц; и они танцевали, даже не танцевали, просто стояли на месте, обнявшись, и слушали с закрытыми глазами музыку. А потом подошел Санта и подарил ему её подарок – в коробочке со старинной картой; он открыл, а там был калейдоскоп: необычный – из двух трубок – одна смотровая, а вторая, к ней крепившаяся – сам калейдоскоп – стеклянная трубка, полная золотистых бусин и разноцветных блестящих звездочек. Тео стал сразу смотреть – направив на свет и переворачивая, как песочные часы; «фантастика; знаешь, я понял, что с нами не так – мы все еще дети; мы еще не выросли из “Щелкунчика и Мышиного короля”».
Последний раз они увиделись в парке – шел снег, липкий, соленый, белый; пронзительно-белый, огромными хлопьями; будто кто-то порвал кружевное платье; от страсти или от горя; куски бумаги без текста; разлетающийся одуванчик; он сказал по телефону, что уезжает; через неделю после Нового года; «далеко?» «да, – сказал он, – как в «Царстве небесном»: сначала будут земли, где говорят по-итальянски, потом – где говорят на неведомых языках» «неважно, что далеко, – поняла она, – главное, что навсегда, да?» «да» ответил он «и ты не отступишься?» «нет». Он был в белой куртке с пушистым капюшоном, будто Кай, приемный ребенок, возлюбленный Снежной Королевы; синяки почти зажили; коснулся ее щеки теплыми, будто чашка с ромашковым чаем, губами; «ты бросаешь меня?» пошутила она; буду веселой, решила Матильда дома, перед встречей, ни слова печального упрекающего не скажу, это дико – мы же всего лишь друзья, девушка и мальчик; надела красное платье с капюшоном, полосатые чулки, красные сапожки, расшитые бисером, красное пальто; «какая ты…» ответил он на это «красная?» «ослепительная; ты похожа на розу»; они шли и болтали, снег попадал в глаза, обжигал; у нее был тамблер с горячим карамельным какао; «как твоя мама?» «как отреагировала? удивилась. Она думала, что я вообще в Бога не верю, а в церковь хожу из любезности; и из-за того, что католиком быть круче, чем кем-то еще – будто религия – это галстук или пиджак; ну, и спросила, буду ли я еще рисовать» «а ты будешь?» «буду – всё, что движется; знаешь, такой размазанной акварелью; я сказал, мама, это ты в меня не веришь» он засмеялся; а у нее будто кровотечение было внутреннее – «а что мне делать без тебя?». Черт, тут же подумала, ну зачем, зачем я это сказала, выдала себя, и сейчас меня застрелят. Он остановился и взял ее за руки – она была в красных тонких шерстяных перчатках, узких, по локоть, будто в крови; сжал пальцы.
– Матильда…
– Да, прости. Я знаю, нельзя так говорить… будто ты мне что-то должен… всё в порядке. Я просто буду ужасно скучать… по несбывшемуся, знаешь… мне уже стыдно. Я так много напридумывала про нас с тобой, что мне стыдно даже стоять рядом; будто я слежу за тобой по ночам… я не слежу… я просто…
Она вырвала руки из его пальцев и побежала, неуклюже, спотыкаясь, завязая в размокшем снеге и земле. Он догнал ее через секунды; схватил, она аж ахнула от боли.
– Матильда… – она вырывалась, но он держал ее крепко, будто она пыталась покончить с собой; потом повернул к себе, и поцеловал, так, как ей хотелось уже полгода – будто поцелуй – это по-прежнему колдовство – можно разбудить, а можно погрузить в сон, украсть, познать душу, разум; лишить всего.
– Это еще один подарок на Рождество? На прощание? – проговорила она после, задыхаясь.
– Да, чтобы не забывала. Ты все равно забудешь, но хотя бы первые два дня… – он коснулся ее губ, улыбнулся, совсем, как дядя Седрик, покровительственно и нежно, будто ты – что-то маленькое – цветок или рыбка в аквариуме; хотелось одновременно и стукнуть и на ручки от такой улыбки; что она сразу и озвучила; и он поцеловал ее еще раз, так мягко, будто секрет рассказывал; и Матильда растаяла, как сахар в чае, простила его.
– Почему же ты уезжаешь? – прошептала она, уткнувшись ему в плечо потом; они стояли посреди парка, обхватив друг друга, как очень замерзшие.
– Потому что… это как идти за упавшей звездой. Я хочу жить не с тобой, не с мамой, не с Артуром – я хочу жить вечно.
– А как жить мне? Уйти в монастырь? Я могу тебя ждать, и потом быть с тобой, как Клара Шиффи со святым Франциском, брат Солнце и сестра Луна… Просто скажи – хочу, и вот увидишь – я не такая неженка, принцесса, как думают… я буду ждать тебя. Конечно, я состарюсь, и все будут думать, что я твоя старая тетушка, ключница, кастелянша, домоправительница, что-то из творчества сестер Бронте; буду шлепать в мягких тапочках и готовить тебе кофе с кардамоном и тмином – такой любит дядя Седрик… ну? Тео? Почему ты не смеешься?
– Ты будешь со мной, а не с Богом.
– Бог простит.
– Ой, дура, – он еще раз поцеловал ее. А потом ушел; снег стал гуще, белая простыня для кино; вещи были уже собраны – он взял с собой немного одежды и книг, и свои принадлежности для рисования; билеты он купил еще в ту ночь, через интернет, когда вернулся с бала домой, принял душ, завернул лед в носовой платок, приложил к носу и скуле, сел смотреть самолеты и поезда. Утром вся семья завтракала – рождественский завтрак – блинчики с медом и кленовым сиропом, яичница с беконом и помидорами; «о, Боже, Тео, ты что? дрался с кем-то на дуэли за честь Матильды?» прокомментировала Сильвен, Сильвер только хмыкнул; «мам, мне нужно поговорить с тобой» сказал Тео «после завтрака?» «нет, сейчас»; они сели в гостиной; пахло елкой; день был солнечный, и вся комната была в бликах от елочных игрушек; он рассказал ей о Братстве Розы; «это какой-то университет? или семинария? когда ты вернешься?» «не знаю, мам, может быть, никогда» «но… зачем это тебе? ты же художник» она была потрясена и растеряна – Тео был такой далекий и красивый сейчас, как лицо из журнала – принц Каспиан, Бен Барнс, можно дотронуться, но не прикоснуться; «мам… пожалуйста… ты отпускаешь меня?» «разве тебе нужно согласие? ты ведь уже решил; ты открыл свое небо в никуда» «мам…» он сполз на ковер, положил голову ей на колени, обнял ее ноги, и она услышала его сердце; и заплакала, будто он шел на войну на заре; «благословляю тебя, Тео, иди в свой крестовый поход; пусть повезет тебе найти и успокоиться; ты мне будешь сниться» «а если я захочу вернуться? если не смогу? ты примешь меня?» «конечно, милый; ох, милый… я уже сейчас готова пойти к Богу и сказать ему, прокричать – ну за что? зачем тебе мой сын?.. как на войну детей отдавать… всегда думаешь, что это твой долг, говоришь о нем, молишься за других – чтобы кто-то пошел служить Богу – а как только твой ребенок уходит от тебя… чувствуешь, что он уносит с собой твое сердце… и ведь он будет небрежен, будет носить твое сердце в кармане, который порвется… о, Тео!»; сердце в форме розы, рубин, младший сын, самый красивый; костюмы, галстуки, красные и черные кеды, велосипед, сумасшедшие рубашки; диски, пластинки, альбомы репродукций, журналы про кино – она сложит это все в коробки из «Икеи», самые дорогие, коричневые, розовые, серые и малиновые, поставит коробки на антресоли, и будет хранить.