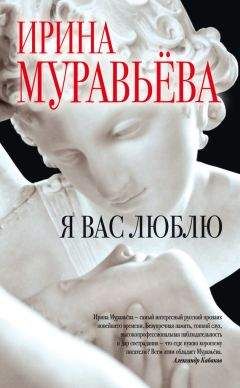Таня подумала, что, может быть, Василий Веденяпин тяжело ранен или убит и его отец, Александр Сергеевич, оттого и не звонит ей и не ищет встреч, что ему сейчас не до нее. Прошло уже две с половиной недели, как они обедали в «Праге», и за это время успел приехать и уехать обратно Володя Шатерников, с которым она опять была несколько раз близка, потому что сейчас ведь не те времена, чтобы морочить голову до отчаяния любящему тебя человеку, который прямо из твоих объятий уехал на фронт.
К утру началась тошнота, озноб, Таня не пошла на работу, но зато позвонила Оле Волчаниновой и попросила заглянуть, если есть время. Через полчаса, топая массивными ногами по лестнице и стряхивая снег с большого вязаного платка, вошла Волчанинова, самая рослая девочка из последнего выпуска гимназии Алферовой, любимица начальницы Александры Самсоновны за прекрасные способности к математике. Волчанинову считали очень красивой и сравнивали даже с богиней Венерой за ее ровный безукоризненный профиль, карие, с густой поволокой глаза и прекрасные светло-каштановые волосы, которые она венком укладывала вокруг головы. Даже слишком высокий рост и некоторая неуклюжесть не мешали красоте этого ясного, всегда отзывчивого и доброго лица. Сейчас оно было погасшим, под карими глазами лежали заметные тени.
– Жар у тебя? – спросила она у Тани и пощупала ей лоб большой и прохладной ладонью.
– Не знаю. Тошнило всю ночь.
– А ты не беременная, Татка? – спокойно спросила Волчанинова.
Таня отшатнулась с испугом. Волчанинова печально покачала головой.
– У Александры Самсоновны, – сказала она, имея в виду Алферову, – есть племянница, дочка ее покойной сестры. Нашего возраста. У нее был жених, и свадьбу назначили, всё приготовили. А тут война. Всё, как у тебя, Татка. Он пошел на войну, и его убили. И тут оказалось, что ей через четыре месяца рожать. Она чуть руки на себя не наложила от горя. Алферовы ее выходили. Ты же знаешь, какие они люди. Александр Данилыч ей целыми днями Пушкина читал. «Сказку о царе Салтане». Теперь она успокоилась, ждет своего ребеночка. Александра Самсоновна почему-то уверена, что будет девочка.
– Зачем ты мне это всё рассказываешь? – простонала Таня. – Я не беременная.
– Ну, нет – значит, нет, – согласилась Волчанинова. – А ничего нет стыдного в том, чтобы без мужа родить. Людей убивают, пусть вместо этого хоть дети нарождаются. Ребенок ведь ни при чем. Ты посмотри на моего брата: встанет с постели и сразу – к бутылке. Сухой закон – так он чего только не пьет! Люди к нему какие-то приходят с черного хода, он им платит. Смотреть стало страшно. Мама говорит: «Петюшенька! Ты сгораешь!»
– А он?
– А он – ничего. Слепой ведь, в повязке. Потыкается лбом ей в руки: «Погладь меня, мама! Прости меня, мама!»
Таня закрыла лицо ладонями.
– Ты, Оля, какая-то бездушная. Ничего тебя не трогает.
– Ну, как же не трогает? – не обиделась Волчанинова. – Очень даже трогает. Мне еще давно цыганка нагадала, что я и проживу мало, и горя у меня будет выше головы. Судьба моя, значит. Что делать!
– Ты веришь цыганкам? – вздрогнула Таня, вспомнив вчерашнее письмо Шатерникова.
– А как им не верить? Папин один знакомый стоял в тамбуре с другим, тоже папиным знакомым. Ехали в поезде. Курили. Вдруг откуда ни возьмись цыганка. И папин этот знакомый возьми да пошути: «Доживу я, – спрашивает, – до сегодняшнего вечера или нет?»
– И что? – напряглась Таня.
– Цыганка посмотрела ему на ладонь и говорит: «Нет, – говорит, – не доживешь. Тебе не больше получаса осталось». Они посмеялись, она ушла. А его через пятнадцать минут с поезда сбросили.
– Как это – сбросили?
– Не знаю. И никто не знает. Он в тамбуре остался, а тот, другой папин приятель, замерз, вернулся в вагон. Вдруг крики: «Человека убили!» Кто-то увидел в окошко, как человека с поезда сбросили. На полном ходу. Остановили состав, тут же полиция, свидетели. Он внизу, под насыпью, лежит, мертвый, ни кошелька, ни документов нету. А ты говоришь: не верить цыганкам!
– Тебе, что ли, тоже гадали? – замирая, спросила Таня.
– И мне, – с грустной важностью ответила Волчанинова. – Я еще совсем маленькой была, лет восьми. На даче. Табор там стоял, в поле. Красиво! Ночью костры, юбки на женщинах такие яркие, золота много… Начали они по дачам ходить, медведя с собой водили. Медведь пляшет, а у него лапа дрожит. Мелко-мелко, как у больного старика. Мы с няней стояли и смотрели. Жара невозможная. Медведь сплясал, а больше не может, устал. А цыган, молодой, бешеный, рожа сизая, как у утопленника, оскалился и – раз его плеткой по морде! У медведя из глаза кровь пошла, лапа опять задрожала, я заплакала. Жалко же! Тут к нам старуха подошла и – цап меня за плечо! Няня начала ее отталкивать, а та кричит: «Дай правду скажу! Дай скажу!»
– Что же она сказала?
– Да я не всё поняла. Помню только про каких-то детей, которые меня «изведут». Я вот только одно это слово и запомнила.
– Как «изведут»?
– Откуда я знаю? Няня меня подхватила и увела. Цыганка нам всё это вслед кричала.
Седьмое письмо Владимира Шатерникова:
Мы отступаем по всем фронтам. Отовсюду приходят тревожные слухи и донесения. Говорят, что из Москвы вывозят государственный банк и другие учреждения, так как ждут прихода немцев. У нас теперь уже официально признан недостаток снарядов, а без снарядов – какая же война? Немцы дерутся с какой-то дикой свирепостью, напоминая своих лесных предков, и всё заметнее становится самоотверженность этой нации, которая взялась разбить нас во что бы то ни стало. В нашей армии всякая надежда победить немцев тает, как снежок на мартовском солнце. Государя жалеют, но тоже уже обреченно, и говорят о нем, как о глубоком старике или малом ребенке.
Вчера я видел первую бабочку. Сидел с солдатами на поваленном дереве, и вдруг – боже мой, чудо какое! Летит, золотистая, белая, такая чужая всему и такая счастливая, испуганная немного. Как будто какой-то маленький, только что народившийся ангел. А ведь еще снег не до конца растаял. Наверное, она в ту же ночь и замерзла. Странно, правда?
Я думаю о тебе постоянно, уже и не различаю, где заканчиваюсь я и начинаешься ты. Вокруг очень много крови, несчастий. Прости, но и ты благодаря мне против твоей воли оказалась в самом центре всего этого, поскольку ты всегда вместе со мной. Я иногда думаю: если меня убьют, почувствуешь ли ты, что это уже произошло? Наверное, почувствуешь.
Прошлой ночью наши лошади вернулись с пастбища, с ними пришла большая черная корова. Она была доверчива и очень ласкова. Солдаты подходили к ней, гладили ее по морде, корова в ответ моргала большими ресницами, прикрывала глаза. Я был уверен, что мы будем держать ее для молока, но ошибся. Ночью корова уже висела на перекрещенных бревнах далеко в подлеске. Вот так. Убили, сварили и съели. Что тут говорить – война! Людей убивают, не корову же жалеть! А мне стало страшно. Между жизнью и смертью, между жалостью и жестокостью, между любовью и отвращением стирается черта. Всё перемешивается. Я знаю, что и эта война закончится, и другая война, которая где-то когда-то начнется – неважно, у нас, у других! – тоже, пролив нужное ей количество крови, насытившись кровью, закончится, но я чувствую, что ничего не проходит бесследно, что от каждой смерти, каждого убийства – человека или любого животного – на этой земле остается какой-то незаживающий рубец. Маленькая, но глубокая ранка, которая не затягивается до конца, и происходит нагноение, как это бывает в солдатских ранах, и всё навсегда остается здесь, с нами, внутри нашей жизни, ослабляя ее изнутри грехами и страхами.
Родная моя! Сегодня днем удалось немного поспать и даже увидеть тебя. Ты стояла у окна с ребенком на руках. Волосы твои были распущены, и ими ты пыталась закрыть от меня ребенка. Я хотел его рассмотреть как следует, а ты закрывалась, отворачивалась. Но я отчетливо слышал, что ребенок плачет. И сейчас слышу. Мне кажется, что этот, именно его плач я узнал бы из тысячи других детских голосов.
Боюсь тебя спрашивать. Но всё же… Благополучна ли ты? Нет ли каких-то новостей, связанных со здоровьем? Ты сама понимаешь, о чем я. Ради бога, ничего не скрывай от меня. Одна мысль, что ты можешь скрыть от меня самое главное, просто сводит с ума.
* * *
В городе наступила весна, стало совсем солнечно и светло. Лавочникам пришлось срочно выставить на продажу припасенное зимой добро, чтобы оно не пропало по нынешней теплой температуре. Переходя торговую площадь по дороге в госпиталь, Таня увидела стоящие прямо у мясных лавок огромные, алебастрово-белые свиные туши с глубокими разрезами на складчатых загривках и опять почувствовала сильную тошноту. Теперь она уже не сомневалась в своей беременности, но страх прошел, уступив место почти безразличию: всё время хотелось спать, спать, спать и ни о чем не думать. Она понимала, что рано или поздно придется сказать отцу, но и это стало неважным. Ну, скажет. А может быть, он сам заметит. Вчера в зеркале она посмотрела на свой голый живот. Пока ничего. Можно никому не говорить.