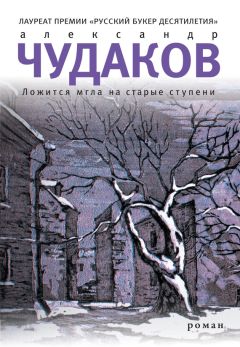В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и «заодно решить кое-какие наследственные вопросы» – эта формулировка, говорила внучка Ира, писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланьях.
– Прямо как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», – говорила она. Библиотекарша районной библиотеки, Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь: «Их так много».
Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство?
Шкаф с сотней книг? Столетний, ещё виленский, диванчик, который бабка называла козеткой? Правда, имелся дом. Но он был старый и ветхий. Кому он нужен?
Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали трое.
2. Претенденты на наследство
В старухе, встречавшей его на перроне, свою тётку Татьяну Леонидовну он не узнал. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на её лицо», – подумал Антон.
Среди пяти дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж – за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тётя Таня никогда не уточняла за что, говоря только: «ну, это был мерзавец».
Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолет. Смершевцы не дремали – его арестовали тут же, ночь он провёл в ихней арестной землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии. Впервые услышав эту историю в пятом классе, Антон никак не мог понять, как можно было сочинить подобную чушь, что человек, находясь в расположении наших войск, среди своих, которые тут же его схватят, сделал бы такую глупость. Но слушатели – два солдата Великой Отечественной – нисколько не удивились. Правда, реплики их – «разнарядка?», «не добирали до цифры?» – были ещё непонятней, но Антон вопросов никогда не задавал и, хоть его никто не предупреждал, нигде домашних разговоров не пересказывал – может, поэтому при нём говорили не стесняясь. Или думали, что он ещё мало что понимает. Да и комната одна.
Вскоре после расстрела Татаева его жену с детьми: Вовкой шести лет, Колькой – четырех и Катькой – двух с половиной отправили в пересыльную тюрьму в казахстанский город Акмолинск; четыре месяца она ждала приговора и была выслана в совхоз Смородиновка Акмолинской области, куда они добирались на попутных машинах, подводах, быках, пешком, шлёпая в валенках по апрельским лужам, другой обуви не было – арестовали зимой.
В посёлке Смородиновка тётя Таня устроилась дояркой, и это была удача, потому что каждый день она в грелке, спрятанной на животе, приносила детям молоко. Никаких карточек ей как ЧСИР не полагалось. Поселили их в телятнике, но обещали землянку – вот-вот должна была умереть её обитательница, такая же ссыльно-поселенка; каждый день посылали Вовку, дверь не запиралась, он входил и спрашивал: «Тётенька, вы ещё не померли?» – «Нет ещё, – отвечала тётенька, – приходи завтра». Когда она наконец умерла, их вселили на условии, что тётя Таня покойницу похоронит; с помощью двух соседок она повезла на ручной тележке тело на кладбище. Новая насельница впряглась в ручки-оглобли, одна соседка подталкивала тележку, то и дело застревавшую в жирном степном чернозёме, другая придерживала завёрнутое в мешковину тело, но тележка была маленькая, и оно всё время скатывалось в грязь, мешок скоро стал чёрный и липкий. За катафалком, растянувшись, двигалась похоронная процессия: Вовка, Колька, отставшая Катька. Однако счастье было недолгим: тётя Таня не ответила на притязания заведующего фермой, и её из землянки снова выселили в телятник – правда, другой, лучший: туда поступали новорожденные телки. Жить было можно: помещение оказалось большое и тёплое, коровы телились не каждый день, случались перерывы и по два, и даже по три дня, а на седьмое ноября вышел праздничный подарок – ни одного отёла целых пять дней, всё это время в помещении не было чужих. В телятнике они прожили два года, пока любвеобильного заведующего не пырнула вилами-трёхрожками возле навозной кучи новенькая доярка – чеченка. Пострадавший, дабы не подымать шуму, в больницу не обратился, а вилы были в навозе, через неделю он умер от общего сепсиса – пенициллин в этих местах появился только в середине пятидесятых.
Всю войну и десять лет после тётя Таня проработала на ферме, без выходных и отпусков, на руки её страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности – пройди-свет.
В голодном сорок шестом бабка выписала старшего – Вовку – в Чебачинск, и он стал жить с нами. Был он молчалив, никогда ни на что не жаловался. Сильно порезав однажды палец, залез под стол и сидел, собирая капавшую кровь в горсть; когда наполнялась, осторожно выливал кровь в щель. Он много болел, ему давали красный стрептоцид, отчего его струйка на снегу была алой, чему я очень завидовал. Был он старше меня на два года, но пошёл только в первый класс, я же, поступив сразу во второй, был уже в третьем, чем перед Вовкой страшно задавался. Наученный дедом читать так рано, что не помнил себя неграмотным, высмеивал читавшего по складам братца. Но недолго: читать он научился быстро, а складывал и умножал в уме к концу года уже лучше меня. «В отца, – вздыхала бабка. – Тот все расчёты делал без логарифмической линейки».
Тетрадей не было; учительница сказала, чтобы Вовке купили какую-нибудь книгу, где бумага побелее. Бабка купила «Краткий курс истории ВКП(б)» – в магазине, где продавался керосин, графины и стаканы производства местного стеклозавода, деревянные грабли и табуретки местного же промкомбината, стояла ещё и эта книга – целая полка. Бумага в ней была наилучшая; Вовка выводил свои крючки и «элементы букв» прямо поверх печатного текста. Перед тем как текст навсегда пропадал за ядовитыми фиолетовыми элементами, мы его внимательно прочитывали, а потом экзаменовали друг друга: «У кого был мундир английский?» – «У Колчака». – «А табак какой?» – «Японский». – «А кто ушёл в кусты?» – «Плеханов». Вторую часть этой тетрадки Вовка озаглавил «Рыхметика» и решал там примеры. Начиналась она на знаменитой четвёртой – философской – главе «Краткого курса». Но учительница сказала, что под арифметику надо завести особую тетрадь – для этого отец дал Вовке брошюру «Критика Готской программы», но она оказалась неинтересной, только предисловие – какого-то академика – начиналось хорошо, со стихов, правда, записанных не в столбик: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».
Вовка проучился в нашей школе только год. Я писал ему письма в Смородиновку. Видимо, в них было что-то обидное и хвастливое, потому что Вовка вскоре прислал мне в ответ письмо-акростих, который расшифровывался так: «Антоша англичанин хвастунок». Центральное слово составилось из стихов: «А ты всё же задаёшься, Надо меньше вображать, Говоришь, хотя смеёшься, Лишь не надо обзывать. И хотя английский учишь, Часто это не пиши, А как это ты получишь, Напиши мне от души» и т. д.
Я был потрясён. Вовка, который всего год назад на моих глазах читал по слогам, теперь писал стихи – да ещё акростихи, о существовании которых в природе я и не подозревал! Много позже Вовкина учительница говорила, что другого такого способного ученика не помнит за тридцать лет. В своей Смородиновке Вовка окончил семь классов и школу трактористов и комбайнеров. Когда я приехал по письму деда, он жил всё там же, с женой-дояркой и четырьмя дочками.
Тётя Таня перебралась с остальными детьми в Чебачинск; отец вывез их из Смородиновки на грузовике вместе с коровой, настоящей симменталкой, которую не бросать же было; всю дорогу она мычала и стучала рогами о борт. Потом он устроил среднего, Кольку, в школу киномехаников, что было не так просто – после плохо залеченного в детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел бывший ученик отца. Начав работать киномехаником, Колька проявил необычайную разворотливость: продавал какие-то поддельные билеты, которые подпольно ему печатали в местной типографии, на сеансах в туберкулёзных санаториях с больных брал плату. Жулик из него вышел первостатейный. Интересовали его только деньги. Нашёл богатую невесту – дочь известной местной спекулянтки Мани Делец. «Ляжет под одеяло, – жаловалась свекрови молодая в медовый месяц, – и отвернётся к стенке. Я и грудьми, и всем прижимаюсь, и ногу на него кладу, а потом тоже отвернусь. Так и лежим, задница к заднице». После женитьбы купил себе мотоцикл – на машину тёща денег не дала.
Катька в первый год жила у нас, но потом ей пришлось отказать – с первых дней она подворовывала. Очень ловко крала деньги, спрятать которые от неё не было никакой возможности – она находила их в швейной шкатулке, в книгах, под радиоприёмником; брала только часть, но ощутимую. Мама обе зарплаты, свою и отцовскую, стала носить в портфеле в школу, где он в безопасности валялся в учительской. Лишившись этого дохода, Катька стала таскать чайные серебряные ложки, чулки, однажды украла трёхлитровую банку подсолнечного масла, за которым Тамара, другая дочь деда, стояла в очереди полдня. Мама определила её в медучилище, что тоже было непросто (училась она скверно) – опять же через бывшую ученицу. Став медсестрой, жулила не хуже братца. Делала какие-то левые уколы, таскала из больницы лекарства, устраивала липовые справки. Оба были жадны, постоянно врали, всегда и везде, в крупном и в мелочах. Дед говорил: «Они виноваты только вполовину. Честная бедность – всегда бедность до определённых пределов. Здесь же была нищета. Страшная – с младенчества. Нищие не бывают нравственными». Антон деду верил, но Катьку и Кольку не любил. Когда дед умер, его младший брат, священник в Литве, в Шауляе, где когда-то было имение их отца, прислал на погребение крупную сумму. Почтальонку встретил Колька и никому ничего не сказал. Когда от о. Владимира пришло письмо, всё вскрылось, но Колька заявил, что деньги положил на окошко. Сейчас тётя Таня жила у него, в казённой квартире при кинотеатре. На дом зарился, видимо, Колька.