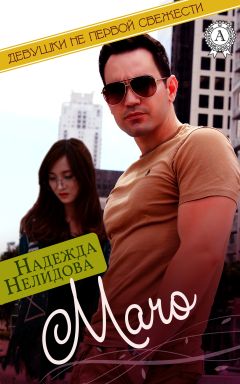А дальше… Дальше выстроенная мной логическая цепочка каждый раз рвётся и летит к чёрту. Всегда и со всеми. Потому что – не разводятся, козлы. И даже довольно легко – по крайней мере, легче меня – обходятся без моей жаркой постели. Либо без труда находят замену, либо довольствуется своими клухами.
Что дальше? А не выдерживаю – ведь столько в него, гада, было вложено. Звоню и слышу в ответ:
– Тамар… Совещание раньше закончится – может быть, заскочу.
Или:
– В пятницу не могу, мы семьёй на дачу.
Ну не козлы, а? И всё. И роли стремительно меняются. Я уже не царица. Я собачонка, я скулю и цепляюсь за брючину, и вымаливаю кусочек, и время от времени норовлю трусливо цапнуть («Вот расскажу всё жене…») Собачонка быстро надоедает, её отшвыривают бесцеремонным пинком.
Томка плачет и наливает себе вино из смуглой бутылки, похожей на женскую фигуру. И рассказывает, рассказывает.
– По мужикам я могу диссертацию защитить. Разобрать по запчастям, разложить по полочкам их примитивное устройство. И только однажды… До сих пор голову ломаю: ведь никто бы не узнал, ни одна живая душа…
Их звали Талант и Талгат. Соседи, братья-погодки, соответственно на три и на четыре года младше меня. В то лето на каникулы из Москвы приехал младший, Талант. Он и вправду талантливый был, уже в школе в математических конкурсах первые места брал. В выпускном классе московские вузы за него грызлись.
А у меня отпуск, я тоже в деревню, в отчий дом приехала. Иду за водой на колонку в девчачьем своём халатике. Давно из него выросла: под мышками лопнуло и на груди пуговки готовы брызнуть. В халате этом только по грядкам ползать – а там на половые тряпки. Утро-то раннее, я думала, никто не увидит.
Смотрю: с рейсового автобуса студентик с чемоданом идёт. «Эй, кричу, – чемоданчик-то у тебя как в дороге запылился, дай сполосну!»
Он, как телок послушный, подошёл. Я всем телом навалилась на ручку, чтобы вода мощнее била, да как направлю на него пустым ведром толстую ледяную струю. Его с ног до головы окатило, отпрыгнул как оленёнок. Я – хохотать, аж пополам перегнулась, он – дёру. А уж сама заметила: он волчонком смотрел, когда я грудью наваливалась – вырез у халатика глубокий, верхних пуговичек не хватает…
Вечером в клубе я его на белый танец пригласила: сам бы он не осмелился. Так бы и жёг меня глазищами из угла. У, волчонок.
И была ночь любви – скажем так, половинчатой. Ох, подруга, наигралась я. За всех своих мужиков на нём всласть душу отвела! Как он рыдал на моей груди. Вскочит: «Ненавижу тебя!» – а потом колени исступленно целует: «Скажи только слово, всё по-твоему будет! Скажешь: институт бросай – брошу. Скажешь: убей – убью».
Вообще-то у меня с самого начала и в голове не было совращать малолетку, ложиться с ним в постель. Это мать его, Галия-апа, всё испортила. С утра пришла к моей бабушке и ну крыть с порога:
– Твоя такая-сякая кобыла необъезженная… Вся деревня про её городские шашни знает (она другое слово вместо «шашни» сказала, покрепче)… Непутёвая, шамута, вскружила голову чистому мальчику… Высох, на себя не похож…Не для неё взращён и цветёт…
И это в благодарность за то, что я месяц её сыночку пальцем к себе прикоснуться не даю?! В тот же вечер с чистым мальчиком мы лежали в постели. И Талантик плакал, потому что ничего у него не получилось. А он прямо с ума сходил: подушку, простыни изгрыз зубами.
Утром я надела глухое, с длинными рукавами, платье: всё тело было в чёрных поцелуях. А губы-то искусанные не скроешь: вздулись на пол-лица и цветом синие: как черёмухи объелась. Так я и уехала в глухом платье и с черёмуховыми губами, под аккомпанемент страшных проклятий и причитаний Галии-апы.
Что гнать меня нужно из села, палками – как паршивую козу. Да чтоб опоганенное, грязное чрево моё иссохло, как пустыня. Да чтобы никогда оно не плодоносило и ни одно семя не завязалось в нём… Ну прямо «Песнь песней» Соломона. Ну и что? А то я без неё не знаю, что детей у меня не будет. Да и не больно рвусь в матери-героини.
Так о чём я?… Ага. Значит, потом до меня доходили слухи, что Талант институт бросил, уехал куда-то. Женился, детей родил. А старший его братец Талгат жил в городе и, по слухам, большой человек стал, но с женой не ладили, на развод подали. Ну да плевать: у них своя жизнь, у меня своя.
И вот звонким апрельским днём я сижу на скамейке в парке и оплакиваю очередную любовь. Само собой, такую, что сердце замирало и в груди было тесно – других я не признаю.
Вдруг подходит ко мне мой Талантик – только ростом повыше, в плечах пошире, заматерелый такой. Да это же его старший брат! Посидели мы, поговорили. Потом он, как маленькую, высморкал меня в свой носовой платок. Взял за руку, повёл гулять по парку. И мы ходили, ели мороженое, крутились на детской карусели.
Я нюхом чую, когда пустышка, а когда Настоящее, Моё. Это было моё, моё, моё – слышите, бабы, лапы прочь от моего Талгата! И я вдруг заробела и вела себя тихо и чинно, как маленькая девочка – инстинкт подсказывал, что я всё делаю правильно.
Вы не поверите: так мы встречались два месяца, без каких либо поползновений с его стороны! Хотя, кажется, что нам мешало? Я молода – он молод, я свободна – он тоже развязан с женой. Я Овен, огненная стихия – он по гороскопу Стрелец – Огонь. А он пушинки с меня сдувал, берёг меня как невесту – это меня-то, прошедшую огонь, воду и медную трубы.
Такое на меня в эти дни снизошло тихое, удивительное, благодарное чувство! Как хрупкое бабье лето. Как благодатная сухая звонкая осень: с позолотой, дымкой…
И вот у Талгата день рождения, и он приглашает меня в ресторан. Там я опрокидываю стопочку и пляшу свой коронный номер: цыганочку с выходом. И весь ресторан пожирает меня глазами: мужчины с восхищением, женщины с ненавистью.
Талгат из-за столика смотрит на меня, не отрываясь так… Как на царицу своего сердца. Он так смотрит, что моё сердце ёкает, как бы предупреждает: готовься. Сегодня или никогда.
Мы, не разнимая объятий, бухаемся на заднее сидение такси. Поцелуй не прерывается до самого дома – плевать на таксиста. Поднимаясь пешком, замираем на каждой лестничной площадке, не в силах разъединить губы.
Ключ пляшет и не попадает в скважину. Свет не включаем. Прихожая, спальня, ковёр, падает лампа. Плевать на лампу. Руки и ноги путаются в одежде, жар прожигает кожу… Сквозь разбросанные по подушке волосы он губами пробивается к моему уху и спрашивает:
– Что у тебя было с моим братом?
Меня будто обдаёт ледяной водой – той, которой я окатила у колонки Таланта. Я только сейчас обращаю внимание, что Талгат скинул куртку и рубашку, но не снял брюки. И, сколько я потом ни пытаюсь потянуть язычок «молнии», раздеть его, – он мягко и решительно отводит мои руки. И настойчиво спрашивает:
– Что у тебя было с моим братом?
– Ничего! – Но ведь, правда, ничего не было.
И снова поцелуй и объятия, от которых я горю. Да и ему нелегко: его торс блестит от пота, грудь вздымается холмом. Но он превозмогает себя:
– Что у тебя было с моим братом?
Так вот для чего он меня берёг. Его слова как пощёчины.
– Ничего не было! Ты ненормальный! Отстань от меня, отпусти!
Талгат закрывает мой рот губами так долго, что я от удушья верчусь вьюном…Он мучает меня, как я мучила его неумеху братца.
То и дело, голый по пояс, он поднимается, садится и курит на краю постели. Докурив, поворачивается, поворачивает меня и поцелуями и ласками доводит до исступления, до изнеможения. После чего грубо приводит меня в себя. Сильно встряхивает за плечи и спрашивает:
– Что. У тебя. Было. С моим. Братом.
…Мы отдыхаем от дикого бессмысленного поединка. Мы, перегоревшие, лежим голова к голове, он по-прежнему в брюках.
– Что? У тебя? Было? С моим? Братом?
Под утро он надел рубашку, заправил в брюки и ушёл, не взглянув на меня, растерзанную и раздавленную.
Вот я и думаю, подруга. Это что была, ревность? Вина перед братом? Или, наоборот, обида: стыдно подбирать объедки? Может быть, изощрённая месть? Но ведь и ему она нелегко далась, он в ту ночь прямо почернел весь.
Задал он мне задачку на всю жизнь. До сих пор голову ломаю: зачем, зачем?! Ведь ни одна живая душа бы не узнала…»