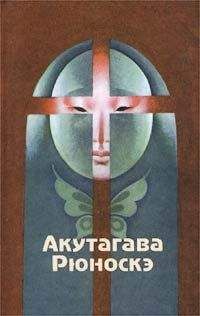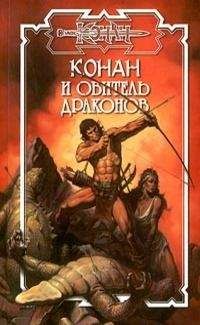– Уважаемая... Раиса! – вспомнила я только что услышанное имя. – Возьмите, пожалуйста, эти деньги и потом отдайте их уважаемому художнику. А то нет у меня сил с ним разбираться.
– А у меня есть, что ли? Куда мне их положить прикажешь, деньги твои? Кассу я уже сдала. Здесь не оставлю. А на улицу идти – так страшно с такими деньжищами по нашей Чикаге бегать. Небось слыхали стрельбу в «Лопе де Веге» сегодня? Не знаю еще, может, и убили кого и к Витьку-могильщику уже стащили. Не-ет! Не трогайте вы тетю Раю! Уважьте усталую женщину покоем!
Художник выхватил из-под прилавка большой полиэтиленовый пакет и аккуратно сложил в него все три свои картины.
– Пакет ты куда потащил? – возмутилась тетя Рая. – Он подотчетный, пакет-то! Видишь, с палехом! Денег он стоит!
– Ох господи ты мой! – Художник вытащил из предлагаемой мной пачки одну банкноту и протянул ее тете Рае.
– А сдачу? Где я сдачу тебе найду? – возопила женщина.
Но ее крики художника уже не интересовали. Он взял пакет с картинами и снова подхватил меня под локоть.
– Пошли, пошли, мамочка! Видишь, я и денежку у тебя взял! – Он имел в виду единственную несчастную бумажку, на которую можно было купить разве что пару бутылок пива.
– Ну дурачок какой-то! Просто юродивый, ей-богу! – прокричала ему вослед тетя Рая. – Завтра принесу тебе сдачу!
– Прощай, Рая, прощай! Пошли, мамочка, пошли!
– Куда, пошли? Дорогой Владимир... Как вас, простите, по отчеству?
– А нету у меня отчества, мамочка! Отец мой подлец был. Вот я по нему отчества и не ношу! А идем мы в туалет. Ведь тебе в туалет нужно? Да, мамочка?
Действительно, с момента моего приезда в город я так и не видела ни одной общественной уборной. А после ушицы, съеденной на обед, эта проблема стала волновать меня не на шутку. Видимо, эти переживания легко читались на моем лице.
– И где же, простите, этот туалет находится?
– У меня, в скромном жилище моем! Да ты не бойся, мамочка...
– Я боюсь?! – По понятным причинам у меня не было никакого страха стать жертвой насилия со стороны юродивого художника.
– Да знаю я, ничего ты не боишься, мамочка моя. Ты же всех сильнее, правда ведь?
– Откуда вы взяли?
Но он не ответил. К тому моменту мы подошли к маленькой дощатой калитке, прикрывавшей дыру в каменной стене. Калитка не запиралась, но пролезать пришлось сильно нагнувшись. Мы вышли наружу и оказались на большом открытом пространстве между монастырским комплексом и озером.
В обратную сторону к дыре направлялся огромного роста монах с лицом, до самых глаз заросшим косматой седой бородищей. Увидев художника, он шагнул к нему, низко поклонился и приложился губами к изувеченной болезнью вывернутой правой руке.
– Да, что ж ты делаешь такое, отец Михаил?! Не по чину мне, не почину!
– Благослови тебя Господь за дела и муки твои! – пробасил чернец. – А я, ты сам знаешь, в неоплатном долгу пред тобой!
Не став слушать возражений инвалида, тот перекрестил художника, с трудом протиснулся в проем и исчез на территории монастыря.
Не дожидаясь моего вопроса, Вова замахал руками, и я поняла, что никаких объяснений по поводу случившегося я не услышу.
В двадцати метрах от нас на вкопанных в землю бетонных блоках стояла аккуратная финская бытовка. Конечно, домом ее назвать было трудно – уж больно маленьким казалось это сооружение. Но установлена она была аккуратно. Присмотревшись, я разглядела подведенные электрические провода и гибкие водопроводные трубки.
– Вот мой дворец, мамочка, – гордо показал на бытовку художник. – Давай, бегом внутрь! Туалет, как войдешь, направо.
Я с радостью воспользовалась Вовиным приглашением. Главными достоинствами маленького туалета, несомненно, были чистота и то, что он, этот туалет, вообще был.
Сам художник ждал меня в гостиной, размером ненамного больше, чем обычное четырехместное купе. Несколько досок стояли вертикально между письменным столом и окном. Я не могла видеть, готовы ли они уже или подтеки краски по торцам означают только то, что работа началась. Спрашивать я тоже постеснялась. Та доска, что лежала на столе, была почти закончена. Было ясно, что особой веротерпимостью и толерантностью юродивый художник не отличается. На картине были изображены муллы, деловито прибивающие Христа к большому кресту, украшенному неоновыми огнями. Сам крест стоит посередине большой торговой улицы. Вокруг сверкает реклама, и люди с тупыми, бессмысленными лицами тащат куда-то свои покупки. И только на одинокой лавочке под одиноким деревцем сидит в позе лотоса Будда и горько плачет. «Ничего себе картинка! Рискует он, однако!» – подумала я, вспомнив телерепортажи из мировых столиц, на улицы которых по всякому поводу выплескивались беснующиеся толпы бородатых фанатиков и их жирных визжащих баб, закутанных в старушечьи платки.
Художник сидел на диванчике, служащем ему, судя по всему, и постелью, а меня усадил в кресло напротив. Между нами стоял журнальный столик на четырех колесиках.
– Тебе еще два часа до автобуса, мамочка. Садись. Чайку попьем, поговорим. Потом я тебя провожу до автовокзала, и мы расстанемся, мамочка. Надолго расстанемся.
Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться провести остаток времени с больным и несчастным человеком. В конце концов, я осознавала, что обязана ему. Трогательно, что этот Вова, несчастный, больной и нищий, просто так, ни с того ни с сего, проникся ко мне симпатией. Я не понимала, почему художник, у которого, судя по всему, нет денег на нормальную одежду и обувь, подарил мне три свои прекрасные картины.
– А почему вы живете в этом домике, а не внутри монастыря? – спросила я.
Он заулыбался.
– Я же не монах, чтобы в келье жить. К тому же я человек для них странный, и привычки у меня обременительные. Вот я себе эту бытовку у строителей-реставраторов забрал и поставил. Мне ничего лучшего и не надо. Здесь у меня и печка есть, и обогреватель электрический, и даже кондиционер, вот он, под окошком. Старенький, но работает. Дребезжит, конечно, но это не важно. И от жары, и от холода спасает.
– Наверное, недешево было вам это все купить? – Я пыталась подвести к тому, чтобы он все же взял у меня деньги. – Бытовка-то прекрасная.
– Да что ты, мамочка! Какое дорого?! Я так ее забрал. Я же весь этот монастырь реставрировал и всех рабочих нанимал.
Мне стало неудобно. Я видела, какие дорогостоящие реставрационные работы проводились в монастыре, и поняла, что у художника Вовы плюс ко всем болезням есть еще и склонность к фантазированию.
– А могу я спросить: почему вы меня все время мамочкой называете? Или вы так ко всем женщинам обращаетесь?
Он вдруг очень посерьезнел. Улыбка сошла с его болезненного лица, и само лицо стало внезапно не просто страшным, но даже зловещим.
– А ты действительно хочешь знать?
– Иначе бы не спрашивала!
– Хорошо...
Он молча поднялся, убедился, что в электрическом чайнике есть вода, и включил его. Потом поставил на журнальный столик чашки и несколько маленьких вазочек с печеньем и шоколадными конфетами.
– Ты зеленый чай пьешь?
– Конечно.
– Я люблю зеленый чай... Какой заварить? Есть тегуанинь, молочный улун и кокейча.
– Я в них ничего не понимаю... извините.
– Тогда заварю вначале тегуанинь – он самый нежный.
Я кивнула. Художник снял с полки разрисованный иероглифами фарфоровый чайник и высыпал в него немного серо-зеленых комочков из бумажного пакета. Пару минут он молча стоял, дожидаясь, пока чайник закипит. Потом сел, поставив перед собой оба чайника – и заварной, и тот, что с кипятком.
– Нужно теперь чуть-чуть подождать. Пусть слегка остынет. Только потом можно заваривать. Хорошо?
– Я же сказала, что ничего в чайных церемониях не понимаю. Буду у вас учиться.
– Я родился таким уродом, – произнес он внезапно безо всяких предисловий. – Я был уродом уже в утробе матери. Я был запланирован уродом еще в миг зачатия.
Я попыталась протестовать, но художник жестом остановил меня.
– Мой отец оставил маму, едва она вернулась из роддома. Он был дагестанец, а после развала Союза внезапно вспомнил, что он мусульманин. Но это было потом. А тогда он был просто мерзавец. Я не желаю называть его имя. Я много раз спрашивал мать, зачем она вышла замуж за этого человека. Он не мог испортиться в один день, в день моего рождения. Как можно было не увидеть, с кем ты делаешь ребенка? Я знаю, что это жестокий вопрос, но я имел право его задать. Мать не дала мне ответа. Она была единственным, поздним ребенком, и, кроме меня, на ней оставались двое стариков – ее родители. Мы жили не просто бедно – мы жили в нищете. Меня признали олигофреном, и я не буду рассказывать тебе, как и чему меня учили в школе-интернате для дебилов. Спасибо матери за то, что она забрала меня оттуда.
На несколько минут художник прервался. Он заварил чай и разлил бледно-зеленый напиток в две чашки. Я попробовала – действительно, я никогда до этого не пробовала зеленый чай с таким тонким изысканным ароматом.