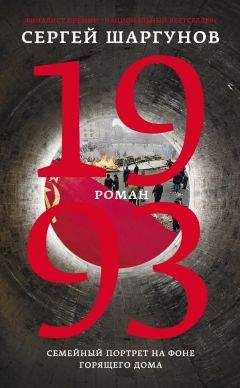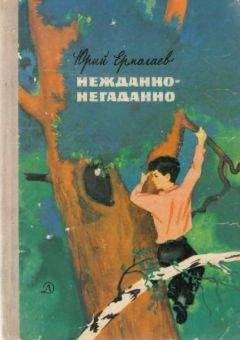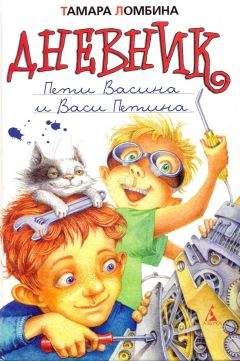Он как будто бы вгрызался. Его усы щекотались и кололись. Лена хотела вырваться – собака гавкнула. Девичьи и собачьи глаза на мгновенье столкнулись.
– Тоже… Тоже целуй… – придушенно сипел Костя. Дверь подъезда заскрипела, показался старик с клюкой. Костя оторвался. – Ну вот и погрелись! – сказал он жизнерадостно. – Еще подышим?
– Нет, я домой…
– Как хочешь. Тогда и мы домой. Да, Радар?
Дома Лена помазала кремом над губой: усы отпечатались зудящим розовым следом. Назавтра был выходной, праздник. Она проснулась с болью в горле, смотрела по телевизору парад и думала, что до этого поцеловалась коротко и вскользь в пионерлагере с мальчиком из Еревана Арамом, потому что в карты проиграла поцелуй, и еще на вечеринке в техникуме, напившись портвейна: Дима Зоммер, худой блондин, ей очень нравился, но погиб под электричкой.
Набрала подружку Олю с работы, затем мачеху. Обеим сказала одинаково и хвастливо: “Тут у меня ухажер появился. Забавный такой. Представляешь, я на седьмом этаже, а он на восьмом!” Оля сказала: “Смотри, чтоб не изнасиловал, а вообще удобно, будете пешком друг к другу ходить”. Валентина принялась за советы: “В жизни что главное? Терпение. Ты его только не отваживай. Сразу покажи, какая ты добрая, нешумная. Скажет что поперек – ты терпи. Может, путное у вас и выйдет”.
Ближе к вечеру Костя позвонил в дверь:
– Идем гулять?
– Неохота. Простыла что-то.
– Лечиться надо! Сегодня же праздник! Собери на стол, отметим.
Он убежал к себе и вернулся с бутылкой каберне, уже початой. Лена впустила, торопливо выложила шпроты, нарезала сыр и колбасу, сели, выпили. Закашлялась. У вина был гадкий вкус, как будто его разбавили водкой. По телевизору передавали концерт, и большой детский хор горланил звонко, до ряби на экране, песню “Старый домик”. Пятым во втором ряду разевал рот смуглый и курчавый, в белой рубашке и с красным галстуком, – вылитый Арам, за всё это время так и не выросший:
Кирпичный старый домик на дальнем берегу,
Тот домик, братцы, в плаванье забыть я не могу…
Сосна стоит над берегом, шумит внизу прибой,
Далекий домик, родимый домик мой…
– Его зовут Арам, – сказала она мечтательно.
– Правда? – Костя притянул к себе и поцеловал.
– Подожди… Колючие!
– Привыкай!
Он говорил ей что-то восхищенное, гладил по голове, наполнял ее бокал вином: “Рот открой и зажмурься, так надо”. Она пила большими глотками, целовалась (какой злой вкус!), отвечала губами губам, бессвязно словами словам… Зазвонил телефон, встала и шатнулась, Костя толкнул за стол: “Успеешь, посиди”… Заснула, пробудилась от холода на диване, без кофты, лифчик подтянут под горло, Костя мокро и безостановочно елозит усами по груди. Лене показалось, что всё это не с ней, она слабо застонала, запустила пятерню ему в волосы и снова закрыла глаза, чувствуя, как он порывисто и зло возится с юбкой. “Расслабься… Я всё сам… Так надо. Я всё сам”.
– Сам так сам, – сказала смешливо и горько, как бы с дальнего расстояния.
Вспышка боли, обварившая нутро кипятком. Забытье… Она с неохотой пробудилась от сильной и быстрой тряски, отозвавшейся тошнотой. Костя подкидывал ее и раскачивал, как будто выполнял гимнастическое упражнение. Она окончательно проснулась, всё поняла, заплакала и, подавив тошноту, жертвенно и жадно ловила губы и усы и гладила потную крепкую спину, слегка пронзая ногтями.
Костя приходил с восьмого этажа на седьмой. Сначала с бутылкой и даже цветами, потом просто с бутылкой. Правда, сводил пару раз в ресторан. “Я хочу, чтоб мы были вместе всегда, – повторял он, и в его глазах скользило что-то заискивающее. – Я от тебя балдею!” Проведя с ней время, он шел в ночь гулять с собакой. Лена, лежа, слышала всё: звон ключей, собачий лай, гудение лифта – и не могла уснуть, пока всё не начинало звучать обратно: лифт, лай, ключи – и с отрадной благодарностью неизвестно к кому и за что проваливалась в сон.
Как-то его застала у нее Валентина Алексеевна – старалась разговорить, рассказала, что много путешествовала и бывала в горах. Он вел себя любезно, но несколько настороженно и быстро распрощался.
– Это хорошо, что у тебя поклонник есть, – сказала Валентина. – Смазливый… Ты с ним осторожнее. Может, какой алиментщик? Видно, бывалый. Прямо Мопассан. Имей в виду: если мужчина по-настоящему любит, он обязательно хочет жениться… Приставал?
– Было. Да я отшила.
Близость с Костей не давала Лене ожидаемого, но он ей нравился. Ее смущала неопределенность их отношений, она хотела от него решительного объяснения. Иногда одна перед зеркалом, глядя на свою грудь, она думала: “Надо же, у меня есть любовник” – и чувствовала себя героиней романа.
И она решила незатейливо его проверить.
– Мне надо с тобой поговорить…
Они полулежали на диване.
– О чем?
– Я забеременела.
Лицо Кости залила мгновенная бледность с синеватым отливом.
– Ты уверена? Задержка? Мочу сдавала? – опытно оттарабанил он.
– Угу…
– Я против, – сказал, как отрезал.
– Почему?
– Это не входит в мои планы, – он глядел не моргая.
– А я всё равно буду рожать!
– Пожалуйста, не делай глупостей! У меня есть хороший врач, профессор…
– Тебе не нужен наш ребенок?
– Знаешь, мне школы хватает. Так орут, бесятся. Страшно представить, что домой приду, а там то же самое.
– Может, и жениться не надо? – не выдержала она.
– Может быть, может быть… – он дергал себя за усики.
– Пошел отсюда вон! – закричала Лена.
– Тише, тише, тише… – Костя стремительно собрался и ушел.
После этого он несколько раз пытался зайти – не пускала, на улице отворачивалась. “Послушай”, – сбежал он сверху, когда открывала квартиру. “Я всё придумала, успокойся”. И он успокоился, отлип. Но вечером и утром Лена слышала, как он выходит с собакой, и затаивала дыхание.
Теперь, когда Валентина Алексеевна спрашивала: “Что там твой ухажер?” – Лена отвечала: “Ничего, надоел” – и сворачивала тему.
После киносеанса Лена шла с Виктором к метро. Оба молчали.
Она думала: “Разве я не дура? Парень добрый, сострадающий. Даже людей из фильмов жалеет. Наверное, тоже ищет настоящей любви. Взял за руку, а я… Чего ради выдернула? Может, я нетронутая какая, никогда меня за руку мужик не держал? Ах, цаца. Дала бы подержать… От меня не убудет. Нет же. Взрослая уже, почти тетка. А всё чего-то воображаю. Наверное, он удивился, подумал: идиотка. А я и есть – идиотка. И хамка”.
Подошли к метро.
– Лен, – позвал Виктор.
– Чего?
– Ну не отворачивайся, Лен… Ты меня не простишь?
– Как? – изумленно спросила она.
Весь следующий месяц они отдавались “культурной программе”, как называла их занятия Валентина Алексеевна.
– Ты его культурной программой маленько подави. Чтоб на серьезность настроился. А если в ресторан потащит или, того хуже, в гости придет – быстро распустится. Ты с ним построже, ты же слишком мягкая, а мужик это чует, вот и наглеет. Ты помучай, ревность вызови. Скажи: меня в Большой театр известный писатель звал. Но и надежду подари: отказала, мол.
Пошли в “Ударник” на “Афоню”. Еще не погасили свет, когда он потянулся рукой, но Лена так выразительно спросила: “Куда?”, что тотчас отдернулся и с минуту озадаченно осматривал свои пальцы, словно хотел и не решался на них подуть.
Они смеялись весь фильм. Смех сближал, и Лена думала, что герой чем-то похож на Виктора.
Выйдя из “Ударника”, серого и насупленного, слитого со всем непогожим днем, пошли по мосту; вода от ветра дробилась чешуей, незажженные кремлевские звезды были тусклыми, и, сама не зная почему, она сказала:
– Какой Леня симпатичный!
– Что еще за Леня?
– А ты не знаешь? Куравлев, естественно! Замечательно играет. У нас один военный на работе так же говорит…
– Как?
– С прибаутками.
– Пустой хохмач, – нашелся Виктор.
– А мне очень нравится!
– Как хочешь. Можно тебя до дома проводить?
– До моей станции. До дома не надо.
– Почему?
– Потому.
В метро их пальцы были рядом на захватанном металлическом поручне. Вагон трясло, руки съехались, Лена, будто не замечая, не убирала руку, и Виктор неотрывно смотрел на этот союз плоти. Освободилось место, села, Виктор высился над ней наклонившейся стеной. Прибыли на “Щукинскую”. Спросила на прощание: “Как твои успехи?”, начал старательно и сбивчиво излагать, осадила: “Всё с тобой ясно”. Замолк и резко помрачнел, точно подавился.
Позвонил в тот же вечер по общажному телефону (починенному) и разговаривал неразборчиво, вероятно, с мечтательным придыханием, и она закричала: “Я ничего не слышу! Пока!” Он перезвонил – голос его стал четким, но каким-то ободранным. Он звонил каждый день: “Что делаешь? Совсем ничего? Понятно. Может, повидаемся? Когда будешь знать?” Несколько раз молчали в трубку. “Не слышу! А?” – звонко поддевала она хохотком, угадывая, что за рыбина задыхается на том конце. И ощущала мстительную отраду: терзать Виктора – значило мстить Косте. Но тем чаще она думала о соседе и как-то среди ночи поняла, что снова вслушивается в звуки на лестничной площадке. Женская изобретательность подтолкнула ее спросить у молчания: “Зайка, ты?”, трубку повесили, и перезвонил Виктор, гаркнувший: “Кто это зайка?” – “Кто надо” – “Нет… – заканючил он. – Это… Кого ты так назвала?” – “Зину, подругу, отстань”.