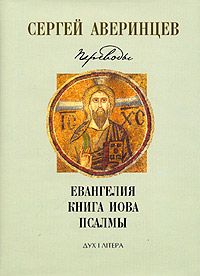Весь Иерусалим прятал героя, словно это был не человек, а Ковчег Завета252. Римляне не нашли Варавву – зато его нашли люди Ирода. Тетрарх спрятал его в подземельях дворца, заковав в кандалы и заточив в каменном мешке на долгие годы. Если бы Антипу тогда спросили: «Зачем ты это сделал?», – он пожал бы плечами, как пожал когда-то, глядя на блюдо, на котором в кровавом ореоле лежала голова Иоанна Крестителя.
Пилат не сможет отказать себе в удовольствии казнить мерзавца, поднявшего руку на «тень императора», как называли себя префекты имперских провинций. Оставалось решить, как всё преподнести. Тетрарх поманил секретаря и тихо шепнул:
– Узнай про пастуха, кто он и где живет. Возможно, он пригодится мне.
Решено! Он отдаст Варавву за солдата…
Отдаст с легкостью, как когда-то отдал голову пророка за танец. Поморщился, не желая вспоминать дела трехлетней давности, но память не хотела отпускать и настойчиво долбила в мозгу: «Ты слизняк, ты мразь, ты трус, ты уже предал одного человека, зачем тебе еще кровь? Ты весь в отца своего, убившего всех младенцев от двух лет и ниже в Вифлееме и во всех пределах его. Кровь их на тебе и на всех потомках Ирода».
Антипа с силой опустил решетку, чтобы не видеть ничего не подозревающего римлянина, которого он уже обрек на смерть.
Только отблески побуревшего света, отражаясь от начищенной кольчуги всадника, заскакивали внутрь носилок, где в полумраке сгущающихся сумерек сидел насупившийся Ирод Антипа. Коснувшись стенок паланкина, темно-красные пятна начинали кружиться вокруг его головы, изображая дикую и безудержную пляску, заставляя его еще раз пережить тот вечер в крепости Махерон253.
Опьяненный разум породил тихую музыку, вгоняя его в сон. Ненавязчивый ритм барабанов, сливающийся с нежной флейтой, вывел на середину зала пленяющую своей красотой дочь Иродиады, одетую в тонкий кружевной синар. Стучали барабаны, пела флейта, а Саломея лишь покачивала бедрами, изображая шелестящий на ветру тростник. Чем сильней стучали барабаны, тем звонче пела флейта, тем яростней качался тростник. И только после того, как ритм барабанов набрал силу, она открылась во всей своей страсти и, распахнув расшитые золотом одежды, начала остервенелый, завораживающий своим бесстыдством сатанинский танец.
Пляска брала за душу, сводя с ума…
Падчерица не ходила – она носилась как заведенная, то припадала к ложу Антипы, откидывалась назад так, что волосы касались пола; то вскакивала и, кружась, уносилась в противоположный конец зала; и уже оттуда вновь неслась к гостям, взвиваясь над музыкантами, словно горная лань; синар взлетал в воздух вместе с хозяйкой, открывая на всеобщее обозрение её непристойные места, отчего у возлежащих с тетрархом перехватывало дух.
Она была достойна того, чтобы он, шатаясь и опрокидывая кубки с вином, поднялся на своем ложе и закричал, заглушая грохот барабанов: «Сегодня твой день… Проси чего хочешь!».
«Мою голову», – сказал чей-то тихий мужской голос…
Ирод вздрогнул и открыл глаза. Хмеля как не бывало. Протрезвевшие и ясные глаза смотрели сквозь щели решетки на темные улицы покачивающегося перед ним Иерусалима. Тетрарх знал, кому принадлежит этот голос, но боялся не то что сказать – подумать о нём.
Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
Евангелие от Матфея, 10:2–5
Стемнело быстро – как, впрочем, и всегда в этих краях.
Все, кто ходил с Господином моим, разошлись по окрестностям в поисках ночлега. Часть людей с апостолами от семидесяти поставили шатры на восточной стороне Масличной горы, откуда открывался вид на Иерусалим и его Храм и куда доносились трубные звуки шофаров. Три Марии: мама Господина моего, двоюродная сестра её Мария Клеопова и Мария из Магдалы – и с ними многие женщины ушли к Симону Прокаженному. Часть людей отправилась к Саре, остальные – Господин мой, апостолы из двенадцати и, конечно же, я – остались у Лазаря.
Лазарь, сестры его Мария и Марфа, Господин мой и три ученика ночевали в горнице, остальные из-за тесноты пожелали лечь во дворе. Марфа натаскала сена, устроив некое подобие сеновала, принесла восемь шерстяных одеял и столько же войлочных валиков под голову. Над ложем галилеяне поставили шесты и накрыли их слежавшимися за зиму пластами соломы, соорудив что-то наподобие шалаша и говоря друг другу: «От дождя спасет, а большего нам и не надо – Господь милостив!» – «Да и дождя не будет – Господь милостив!»
Они мне нравились – эти чернявые, смышленые галилеяне; бородатые мужи и сыны заповеди с щеками, покрытыми пухом; крепко сбитые, с сильными, привыкшими к труду руками. Внешность – это то, что их отличало, но было и то, что объединяло – взгляд. Один на всех: чистый, ясный, без зла, без тайных помыслов, без лукавства и обмана. «Иди, – говорят, – сюда, Хамарин, морковку дадим», – и лезут в мешок, а я и иду, не боясь, что вместо морковки сунут мне змею под нос. Доверял я им. Почему – не знаю, но рассуждал так: если Господин мой им верит, вручая ключи от дома своего, так что же мне, неразумному, от них шарахаться? Не затем он их три года водил за собой, поучая и наставляя, чтобы они вместо хлеба камень подавали. С ними не было только Иуды, который не пришел в Вифанию, оставшись где-то в городе. Все звали его Искариот, но мне не нравилось это имя, и про себя я прозвал его «скарбник»254. Не знаю где и от кого услышал слово, но оно у меня почему-то ассоциировалось со скарабеями – жуками-навозниками.
Я стоял во дворе возле дома Лазаря, опустив голову в корыто, выдолбленное из цельного ствола ливанского кедра, с аппетитом уплетал сладкий отборный овес и думал, напрягая весь свой ослиный мозг.
Как?..
Как сказать иудеям: «Он пришел, придите и вы к нему»? В голову ничего путного не лезло. Проблема не в том, что они не поймут меня, а в том, что люди не умеют слушать. Не хотят разговаривать с деревьями, с облаками, с землей, с птицами, со скотами. Они думают, что они от Адама – значит, выше всех, ну так и до Адама уже ослы были.
После гибели смоковницы я полдня не мог прийти в себя. Жалко было дерево, но еще жальче было детей, жён, мужей их и весь народ израильский, которому была уготована участь бесплодной деревяшки. Там, в долине Кедрона, в один миг для меня тайное стало явным. До чего же неразумны люди! Их бы научить, просветить, рассказать, что не так всё просто в этом мире…
Смех заставил меня открыть отяжелевшие веки. Кажется, я уснул. Покрутил головой, пытаясь взбодриться и прогнать такой сладкий и такой навязчивый сон, особенно вблизи тепла и тихой журчащей человеческой речи. Посмотрел на апостолов, сидящих кружком возле костра. Пахло дымом, вечерней прохладой и горячим, только что вытащенным из печи хлебом.
И послушать хотелось, и поесть, и поспать.
Любопытство побороло сон. Я набил полный рот овса, чтобы не бегать между яслями и апостолами, и потопал к костру. Подошел и встал в сторонке, хрустя ядреными зернами.
– …Были мы где-то на середине, когда на берегу пробили четвертую стражу. Это я хорошо запомнил. Звон долго еще плыл над морем… Что интересно, как только он замолк, ветер с такой силой рванул парус – чуть лодку не опрокинул! И закачало нас: вверх-вниз, вверх-вниз, чуть кишки наружу не полезли. Ну, думаем, всё – пропали! И Учителя с нами нет – остался на берегу… И берегов не видно. Хоть кричи…
– Ну и покричали бы, – Симон Зилот улыбнулся и сунул в костер несколько сухих веток.
Левий Матфей – тот самый, что приходил за мной к Саре – почесал лоб и посмотрел на Симона: как хороший рассказчик он знал, когда и какой длины делать паузы, чтобы заинтриговать слушателя.
– А ты думаешь, не кричали? Кричали, да еще как… аж все бесы морские повылазили поглядеть, кто так орет истошно.
Раздался дружный смех. Апостолы заулыбались, поглядывая друг на друга в предвкушении веселой истории.
– А Петр когда тонуть начал? – Фаддей поерзал, устраиваясь поудобней.
– Да погоди ты, – бородач поднял руку, как бы останавливая нетерпеливого. – Давай, Матфей, по порядку. Расскажи, как вы призрака увидели и чуть в море от страха не попрыгали.
Бородачом был Фома. Насколько я понял, в лодке тогда были Петр, его брат Андрей, братья Иоанн и Иаков Заведеевы, Матфей – он же Левий-мытарь – и Иаков Алфеев, брат Фаддея. Самого Фаддея, Фомы, Варфоломея, Филиппа, Симона Зилота и Иуды Скарбника с ними не было: где они находились – известно им самим и Господину моему. Иов как-то проговорился, что Учитель посылал учеников своих проповедовать по всей земле Израильской. Там, наверное, они и были.
– А что тут рассказывать, – Матфей хитро посмотрел на слушателей. – Ни луны, ни звезд, тьма кромешная, только ветер ревет и волны налетают на нас и гонят челн. Куда? Зачем? Одному Богу известно. А мы прижались друг к другу и дрожим от страха. И вдруг ветер как бы спал… тихо так стало, только слышно: «шлеп», «шлеп», «шлеп, «шлеп». Что, думаю, за наваждение, вроде как идет кто-то по воде… Голову поднимаю над бортом и…