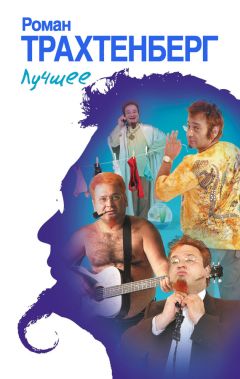– религиозная атрибутика (ермолки, кресты, Библии, четки, коврики можно хранить в шкафу);
– одежда (либо форма «хаки», либо серые спортивные костюмы и шорты вечером или на выходные);
– медицинское обслуживание (как бы существует);
– зубоврачебный кабинет (очередь на год вперед);
– магазин (раз в три недели);
– отдел психологии (помощь при психических расстройствах);
– отдел образования (окончить среднюю школу – обязанность);
– отдел по отдыху (спортивные соревнования, тренажерный зал, кружки: рисования, поделки по дереву, ВИА);
– тюремная церковь (священная корова – полная свобода вероисповедания, более 20 различных религиозных групп и пять работающих капелланов);
– реабилитация алкоголиков и наркоманов (еще одна священная корова – за участие в программе могут «скинуть» часть срока);
– сексуальное насилие внутри тюрьмы (немедленно заявить на обидчика – зэка или офицера).
И так далее, и тому подобное…
– А теперь перейдем к самому главному – наказаниям, – улыбаясь, сказал Родригес.
Он достал из ящика стола небольшую книжицу в зеленом переплете.
Система наказаний была четкой, продуманной и неоправданно жестокой, вполне достойная известной помещицы Салтычихи.
В федеральном исправительном заведении Форт-Фикс запрещалось многое – 186 преступлений, проступков и мелких правонарушений.
Среди прочего, мы не имели права:
– прятать лицо под маской;
– бегать по территории тюрьмы;
– организовывать беспорядки и восстания;
– подписывать коллективные заявления;
– отказываться от сдачи анализов на алкоголь и наркотики;
– употреблять алкоголь и наркотики;
– пользоваться сотовым телефоном или хранить его;
– использовать телефон-автомат для угроз и противозаконных дел;
– драться и заниматься вымогательством;
– принимать участие в несанкционированных митингах;
– предлагать и давать взятки персоналу тюрьмы;
– красть или просто выносить еду из столовой;
– оказывать любые платные услуги;
– демонстрировать или учить боевым приемам и боксу;
– находиться в запрещенных местах, особенно вдвоем;
– заниматься сексом и принуждать к нему;
– передавать и использовать лекарства не по назначению;
– одалживать или получать услуги, вещи, продукты в долг;
– находиться в чужой камере или отряде;
– отказываться от работы или учебы;
– опаздывать или пропускать работу или учебу;
– опаздывать или пропускать проверку личного состава;
– симулировать болезни;
– наносить татуировки;
– заниматься любым видом бизнеса в тюрьме и за ее пределами;
– кормить или приручать животных;
– не выполнять любые приказы работников тюрьмы;
и прочая, и прочая, и прочая…
«За нечаянно бьют отчаянно», – говорили шестилетние карапузы в дворовой песочнице, нанося друг другу удары железной лопаткой по голове.
То же самое полагалось и в моей тюрьме – за любую из 186 официальных провинностей зэк из Форта-Фикс получал одно или комбинацию из нескольких наказаний:
– перевод в тюрьму строгого режима;
– дополнительный срок;
– потеря условно-досрочного освобождения (15 % за хорошее поведение);
– отправка в ШИЗО (карцер) на срок до 1 года;
– выплата дополнительных штрафов;
– отключение телефонной связи;
– запрет на получение почты;
– запрет на покупки в магазине;
– запрет на посещение кружков;
– перевод в другую камеру;
– исключение из учебной программы;
– увольнение с работы;
– перевод на более тяжелую работу;
– еженедельные обыски и проверки;
– конфискация несанкционированных предметов;
– ограничения в передвижении по зоне;
– выполнение работ по уборке территории.
В зависимости от серьезности проступка наказание определял либо дежурный надзиратель, либо лейтенант – начальник охраны, либо «Ди Эйч Оу»[86] – региональный офицер по дисциплинарным слушаниям.
Последний служил зэкам судом высшей тюремной инстанции. Он заезжал в тюрьму раз в месяц и обычно выносил неоправданно строгие решения. Русские называли его «чмо», что вполне оправдывало его мерзопакостную сущность.
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», – крыловская фраза служила для местного вершителя судеб и большинства «исправительных офицеров» девизом и руководством к действию.
Говорить, что американская тюрьма хоть кого-то исправляла, явно не приходилось. Наоборот, она становилась местом, где происходил бесконечный обмен опытом между нарушителями закона, своеобразный «факультет повышения квалификации».
Я называл это необыкновенное для меня явление «Fort Fix University».[87]
Попавший в тюрьму человек, как правило, озлоблялся и строил не совсем кошерные планы на будущее, а самые длинные в мире сроки заточения только обостряли это чувство.
«Исправительную» систему устроили так, что у зеков отсутствовал и стимул, и самый малюсенький шанс на выход на свободу раньше срока.
Кроме стандартных 15 процентов «условно-досрочного освобождения».
Будь ты хоть мальчиком-паинькой, семи пядей во лбу, отличником боевой и политической подготовки, тюремным стахановцем или Эйнштейном, олимпийским чемпионом, заслуженным артистом, народным учителем или Героем тюремного капиталистического труда – никогда и ни при каких условиях американский заключенный поблажек не получал.
А отсутствие стимулов привело к падению рабовладельческого строя и развитого социализма!
В результате уравниловки мои товарищи мотали срок с минимальными потерями в массе тела, при активном бездействии гипотоламуса и серого вещества.
Карты, домино, телик, работа «не бей лежачего», продавленная койка и сон разума продолжали рождать чудовищ.
Выпущенные из тюрьмы, ничему не научившиеся и без перспектив на работу экс-зэки через несколько месяцев пребывания на свободе стройными рядами возвращались на нары на более длительные сроки по новым путевкам американских прокуроров.
Вечная кормушка для тюремной системы и околотюремных прихлебателей – ФБР, прокуратуры, судов, полиции, приставов, поставщиков еды, журналистов – крутилась, не переставая…
Пока что на серьезные наказания я лично не нарывался.
Зато уже трижды толкал перед собой тяжеленную доисторическую газонокосилку.
Чахнущие на жаре зеленые газоны – гордость и забота начальника тюрьмы Рональда Смита – требовали постоянного ухода. Поэтому на покос барских лугов староста ежедневно выгонял несколько десятков провинившихся перед помещиком крестьян.
В первый раз меня сцапали за тридцатисекундное опоздание на проверку личного состава – я задержался в душе и не слышал грубого окрика дуболома: «Count!»
Во второй раз я на минуту опоздал в свой корпус после радиообъявления о запрещении внутренних переходов: «Compound is now closed!»[88]
В третий раз я отделался легким испугом – меня поймали курящим в туалете. На самом деле – за достаточно серьезным нарушением режима.
– Как твоя фамилия и из какого ты отряда? – допрашивал меня заставший на месте преступления надзиратель.
Я представился и протянул ему пластиковую карточку – тюремное ID, выданное в первый день:
– Трахтенберг, отряд 3638.
Статью и срок в таких случаях не называли. Более того, администрация тюрьмы не приветствовала, когда охранники интересовались, за что «чалился» тот или иной зэк.
– Придешь в лейтенантский офис после ужина, ровно в шесть вечера, – приказал либеральный надсмотрщик. Чин «лейтенант» был самым высоким в местной пенитенциарной иерархии.
– All right, officer[89], – ответил я, прикидывая, чем мне будет грозить совершенный проступок.
Если бы у вохровца имелись серьезные намерения, то меня бы забрали на разборку полетов в тот же момент. Слава богу, этого не произошло, и я немного расслабился.
Каждый день в назначенное время у одноэтажного домика в центре зоны выстраивалась очередь из нарушителей внутритюремной дисциплины. После пятиминутной лекции дежурный дуболом или сам лейтенант в белой форменной рубашке отводил провинившихся на склад газонокосилок и грабель. Каждому под расписку вручался агрегат и определялись границы покоса.
Зимой зеки получали лопаты, скребки, соль и щетки-метелки.
В тот вечер я получил тяжелый чугунный агрегат.
Моя машина была проста и неприхотлива в обращении и чем-то напоминала портативный советский каток для укладки асфальта. На длинной металлической ручке крепился цилиндр с тупыми лезвиями. Аппарат походил на упрощенный вариант комбайна «Колос»: при движении тубус вращался и подрезал траву.
«Хлеба – налееево, хлеба – напраааво…» – вспоминал я Людмилу Зыкину, толкая газонокосилку впереди себя.
Одновременно с легендарной певицей из забытья возникло стихотворение «Песня пахаря» моего земляка Алексея Кольцова: «Весело на пашне. Ну, тащися, сивка!»