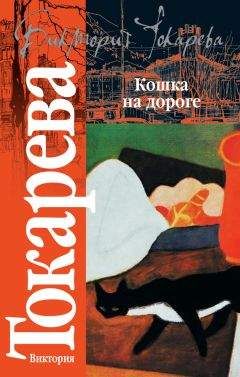Инна вдруг почувствовала замечательное спокойствие. Она поняла, что Адам и тот человек, которого она любила, были каким-то странным образом связаны между собой, как сообщающиеся сосуды. И присутствие в ее жизни одного требовало присутствия другого. Когда один ее унижал, то другой возвышал. Когда один ее уничтожал, то другой спасал. А сейчас, когда один проехал мимо ее жизни, исчезла необходимость спасаться и самоутверждаться. Значит, исчезла необходимость и в Адаме. Адам мог сочетаться только в паре, а самостоятельного значения он не имел. Не потому, что был плох. Он, безусловно, представлял какую-то человеческую ценность. Просто они с Инной – из разных стай, как, например, птица и ящерица. Не важно – кто птица, а кто – ящерица. Важно, что одна летает, а другая ползает. Одной интересно в небе, а другой – поближе к камням.
Зажегся красный свет, и пешеходы двинулись через дорогу. Навстречу Инне шли люди разных возрастов и обличий, и среди всех бросалась в глаза яркая загорелая блондинка, похожая на финку с этикетки плавленого сыра «Виола». Инна невольно обратила на нее внимание, потому что «Виола» бросалась в глаза и очень сильно напоминала кого-то очень знакомого.
«На кого она похожа? – подумала Инна. – На меня». «Виола» шла прямо на Инну, не сводя с нее глаз до тех пор, пока Инна не сообразила, что это она сама отражается в зеркальной витрине магазина. Она шла себе навстречу и смотрела на себя как бы со стороны: вот идет женщина неполных тридцати двух лет. Выглядит на свое. Не моложе. Но и не старше ни на минуту. Это не много – тридцать два года. И не мало. С какой стороны смотреть: на пенсию – рано. Вступать в комсомол – поздно. А жить и надеяться – в самый раз. И до тех пор, пока катится твой поезд, будет мелькать последний вагон надежды.
Ночью мне приснился мой умерший отец. Он сказал странную фразу: «Отдай ботинки Петру».
Я, наверное, спросил бы у него: «Почему?» Поинтересовался бы, с какой стати я должен отдать Петру свои новые английские ботинки, но в этот момент в мою дверь постучали. Негромкий настойчивый стук будто выманил меня из сна.
Я открыл глаза, не соображая, утро сейчас, или вечер, или глубокая ночь.
– Вас к телефону, – объявила соседка Шурочка.
Шурочка подходила к каждому телефонному звонку в надежде, что звонят ей, но ей никто не звонил. И каждый раз в ее «Вас к телефону» я различал еще один грамм подтаявшей надежды.
– От меня ушла жена, – сказал в трубку Вячик.
– А который час? – спросил я.
– Восемь.
– А когда она ушла?
– Не знаю. Я проснулся, ее нет. Позвони ей, пожалуйста, и скажи: «Галя, ты сломала Вячику крылья. Он сдался. Делай с ним что хочешь, он на все согласен. Только вернись». Запомнил?
– Запомнил, – сказал я.
– Повтори, – не поверил Вячик.
– «Галя, ты сломала Вячику крылья. Он на все согласен. Только вернись».
– Ты пропустил: «Он сдался, делай с ним что хочешь».
– Это лишнее, – сказал я.
– Почему?
– «Делай с ним что хочешь» и «он на все согласен» одно и то же.
– Да? Ну, ладно, – сказал Вячик. – Ты позвони ей, потом сразу мне.
Вячик – руководитель нашего ансамбля. Он композитор. Творец. Первоисточник.
Талантливые люди бывают двух видов:
1. С чувством выхода – это творцы. Это Вячик.
2. Без чувства выхода. Это я.
Я слышу музыку, понимаю, но не могу выразить, и все остается в моей душе. Поэтому в моей душе бывает тесно и мутно.
Я положил трубку и пошел на кухню.
Шурочка стояла над кастрюлей с супом и выжидала, когда на его поверхность всплывет серая пена, чтобы тут же ее выловить и выбросить.
У Шурочки был тот тип внешности, которому идет возраст. Сейчас она была молода, а потому незначительна.
У Шурочки был муж-аспирант и сын – младший школьник. Все они жили в одной шестнадцатиметровой комнате и существовали посменно: когда отец писал диссертацию, мальчик носился по коридору, как дикий зверь в прериях. А когда он делал уроки, отец, в свою очередь, выходил в коридор, садился на сундуке возле телефона и просматривал периодику.
Я поздоровался с Шурочкой и рассказал ей свой сон.
– А отец тебя обнимал? – спросила она.
– Не помню. А какое это имеет значение?
Шурочка попробовала свой суп и некоторое время бессмысленно глядела в сторону, определяя, чего в нем не хватает.
Зазвонил телефон.
– Ну? – спросил Вячик.
– Что «ну»?
– Звонил?
– Нет.
– Понятно, – догадался Вячик.
Я деликатно промолчал.
– Она еще хуже, чем ты о ней думаешь, – сказал Вячик. – Ты даже представить себе не можешь, что это за человек. Она успокоится только тогда, когда втопчет меня в землю… Ну ладно. Извини. Я сам позвоню.
– И ты не звони, – попросил я.
– Почему?
– Ты себе цены не знаешь. Ты делаешь счастливее все человечество.
– Да, – согласился Вячик. – Но меня может сделать счастливым только она одна.
– Ну ладно, – сказал я после молчания. – Как там про крылья?
– «Ты сломала Вячику крылья. Он сдался. Делай с ним что хочешь. Он на все согласен. Только вернись», – проговорил Вячик несокращенный вариант.
Я положил трубку и набрал номер Гали.
Там долго не снимали. Наверное, Галя стояла, подбоченясь, над трезвонящим телефоном и хихикала. Потом сняла трубку и произнесла с иностранным акцентом:
– Хелло…у, – и при этом, должно быть, высокомерно посмотрела на себя в зеркало.
– Вот бросит он тебя, куда денешься? – спросил я.
– А кто это? – без иностранного акцента спросила Галя.
– Спрашиваю я. Куда ты денешься, если Вячик действительно тебя бросит?
Галя оробела. Наверное, ей показалось, что звонит кто-то важный из канцелярии Высшей Справедливости.
– Куда все, туда и я, – ответила Галя.
– Все работают. А ты работать не любишь.
– Я буду петь.
– Петь ты не умеешь.
Гале действительно все равно, что петь и как петь: сидя, лежа или стоя на руках вниз головой.
Галя молчала, должно быть, раздумывала.
– Но я больше не могу, – сказала она упавшим голосом.
– Можешь.
Я положил трубку и пошел досматривать свой сон.
За Галю и Вячика я был спокоен: сейчас они помирятся, потом опять поссорятся.
Я лег и закрыл глаза. Вернее, я лежал с открытыми глазами под опущенными веками.
Сейчас начало десятого. Мика сидит у себя в лаборатории, смотрит, прищурившись, в микроскоп и жалеет себя.
Я позвоню ей, она снимет трубку и отзовется слабым, будто исплаканным голосом.
– Ты чего? – спрошу я.
– Я не спала, – скажет Мика и замолчит молчанием, исполненным достоинства.
– И напрасно, – скажу я. – Ночью надо спать.
Мы ходим вокруг да около, чтобы не говорить о главном. А главное в том, что мы не женимся.
А не женимся мы потому, что я не могу никому принадлежать дольше чем полтора часа в сутки. Когда истекают эти полтора часа, во мне развивается что-то вроде мании нетерпения. Мне хочется вскочить и бежать, как в атаку.
Мика – единственный человек, который меня не утомляет, потому что в ней идеально выдержаны пропорции ума и глупости. Я могу быть с ней три и даже четыре часа. Но ей нужны двадцать четыре часа, и ни секунды меньше. Она постоянно поругивает Вячика и как бы оттягивает меня от него, поскольку Вячик – мой друг. Она хочет, чтобы я принадлежал ей весь. И сейчас, сидя у себя в лаборатории, она бы разглядывала в микроскоп мой волос – каков он на срез: круглый или продолговатый…
– Вас к телефону, – позвала Шурочка.
Я знал, что это Мика. Когда я о ней думал, она это слышала, поскольку мысль материальна.
– Ты билет взял? – спросила Мика.
Она имела в виду билет на самолет. Самолет должен был переместить мое тело из Москвы на юг. Из весны в лето.
– Взял, – сказал я.
Мика молчала.
С одной стороны, она беспокоилась о моем здоровье и хотела, чтобы я отдохнул, чтобы дольше был живым и дольше любил ее. С другой стороны, я уезжал и оставлял ее без себя на двадцать четыре дня, и целых двадцать четыре дня ее жизнь не имела никакого смысла и была ей в тягость.
Когда я уезжал на гастроли или в отпуск, Мика погружалась в стоячую глубину времени и существовала, как утопленница. Даже хуже, потому что утопленники ничего не чувствуют, а она страдала.
Мика любила меня из года в год, изо дня в день с неослабевающей силой, будто внутри у нее был мотор, вечный двигатель, перпетуум-мобиле, и с ним ничего не происходило.
Сколько раз я ронял этот мотор, бил его, терял, но он не ржавел, не снашивался и не разбивался. Это было какое-то самозаряжающееся устройство.
– Жаль, что ты не можешь взять отпуск, – сказал я.
Мика не ответила. Жаль мне или нет – это не меняло дела. Я все равно уеду, а она все равно останется.
– Мне грустно, – сказала Мика.
– Нет, – ответил я. – Ты счастлива. Ты не понимаешь этого. Страдание – оборотная сторона любви и, значит, тоже входит в комплекс «счастье».
Мика тянет ко мне руки, а ее руки уходят в пустоту. Она зажимает меня в кулак, а я, как песок, просачиваюсь сквозь пальцы. И есть я, и нет меня.