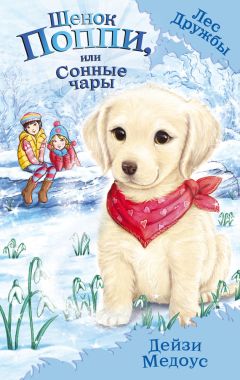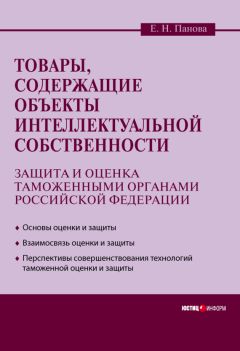– Пройдемся?
– Куда?
Я показал ей место, где часто бывал, неподалеку от леса. «Какая безукоризненная случайность то, что автобус привез нас именно сюда» – думал я по дороге, смахивая с рукава бронзового жука, который полз сверху вниз, вдоль продольного шва. Я часто сидел на этом, вросшем в землю, сером камне, глядя, как проплывают мимо поезда, и люди, лица смотрят на меня из окон, и воспринимают как часть пейзажа, который приберегла дорога – именно для них, как дар прозреть, в одно мгновение охватить красоту мира, – в их памяти я задерживался не более, чем на секунду. В промежутках между поездами я слышал, как щебетали птицы и шумели листья.
Теперь рядом со мной сидела она, листья молчали, замер весь мир, лишь изредка покачивались травы, томно припадая к земле под безветренным, полуденным зноем. Я не сказал ей, что она была первой, кому я показал это место, как когда-то не сказал, что никому не дарил цветов. Я был уверен – она поняла, без звуков, без объяснений – она читала в моих мыслях. За нашими спинами раскинулся лес, впереди рельсы разделяли землю пополам, а за ними виднелось широкое поле, заросшее бурьяном.
– Я хочу гулять в чертополоховом поле. – Произнесла она, задумчиво глядя вдаль. Я следил за её взглядом.
Я ничего не ответил, мне показалось, что она скажет что-то ещё. Когда я говорил с ней, мне не требовалось усилий, чтобы извлекать из себя слова, – они текли плавной извилистой рекой, достойные понимания и, достигнув, гордые им. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она завершила фразу.
– С тобой.
«Со мной?». Я вновь промолчал, но это показалось мне естественным. Я тоже хотел гулять с ней в чертополоховом поле. Но где его найти? За несколько секунд я перелистал в голове все пейзажи, которые видел, но среди них не было того единственного, который я хотел бы вспомнить.
– Я никогда не видел чертополохового поля, – наконец, признался я.
– Я тоже. Только во сне.
Только во сне. Быть может, в реальности его не существует вовсе, и мы никогда не будем пробираться плечом к плечу через заросли чертополоха. Может быть, это она и имела в виду? Что нас нет, и не может быть в реальности. Что мы – только выдумка моего воображения. Я хотел стремительно, бездоказательно поверить в чертополоховое поле, как я поверил в чувства, не названные словами. Не поэтому ли в каждом новом городе я неизменно жил на окраине? Риторический вопрос к самому себе. Выходя на платформу из поезда, открывая двери квартиры, фоном сознания я искал глазами эти заветные колючие заросли. Я долго делал вид, что забыл про чертополоховое поле. Но, разделяя свою жизнь на страницы, нужно быть честным. Я всегда о нём помнил.
Я придумал нашу жизнь, как предчувствие ещё не свершившегося, но вот-вот готового произойти, однако время утекало прочь, ничего не происходило, – время пустовало и отмирало бессмысленно прошедшим. Предчувствие растянулось на годы, каждый день был как предчувствие нас, предчувствие чертополохового поля, которое я мечтал увидеть, как росчерк кометы на чёрном небе, как летящий в глаза первый снег, как воплотившийся в жизнь призрачный сон. Признать, что этого поля не существует, значило для меня признать, что не существует и нас. Поле стало символом всего, что я чувствовал, но не мог (или не хотел) выражать словами, – этими жалкими, безмысленными сцеплениями букв.
В тот день я впервые обнял её за плечи и почувствовал, как весь мир сжался до ощущения этого прикосновения, её плечи превратили простой жест в событие, полное загадочного в то же время столь ясного смысла. Её плечи закрыли собой весь мир, – властное, быстрое мгновение, оно показалось мне идеальной пропорцией – золотым сечением – мне казалось, что эти несколько мгновений, что я обнимал её, непременно должны устремиться к бесконечности, продлиться навсегда. Но секунды никому не обязаны, и потому они лишь исчезли, сгинули в небытие.
Я провел рукой по её лбу, отодвинув сбившуюся прядь волос, её кожа была горячей и немного влажной, светлой, словно никогда не знавшей загара. По руке пробежала тень от березы, которая раскованно качала тонкими ветвями у нас над головами. На камень в нескольких сантиметрах от края её бирюзового платья приземлилась стрекоза и проворно исчезла, взлетев вновь через несколько секунд. Вдали послышался шум поезда. Я закрыл глаза на несколько мгновений, чтобы запомнить этот момент, оставить его себе, как подарок жизни, запечатлеть в памяти каждое ощущение. И я запомнил.
Как мог я не запомнить?
Страница 42
Слова, которые я выбрасывал
Говорят, для того, чтобы перестать о чём-то думать, нужно про это написать. С наступлением весны я начал писать письма. От одиночества или от скуки, но мне хотелось быть откровенным – в основном перед собой – ведь я никогда их не отправлял. Писем было много, но я писал их одним и тем же людям. Моё сердце не так просторно, как мысли.
Я писал письма каждому, для кого у меня ещё остались слова. Я отдавал эти слова листу бумаги, разрывал их на части и выбрасывал в воздух, словно блестящие в лунном свете хлопья снега, словно праздничный серпантин. Чувствуя радость саморазрушения, я делал из них неуклюжие, наивные кораблики и пускал их в плавание с неизбежным кораблекрушением. Я сжигал их на асфальте прямо под своими ногами. Нет ничего приятнее, чем сжигать своё прошлое. Нет ничего приятнее, чем сжигать то, что меньше всего хочется сжечь. Я хотел преодолеть нечто внутри себя, эту властную тягу назад, консервативное чувство дома, тоску по ушедшему, нежелание жить по-новому. Увы, это был только перформанс ради самого себя, письма красиво и быстро сгорели, оставив всё по-прежнему.
Я сжег старые письма Анны. Как я любил когда-то эти строки, обращенные ко мне, в каждом звуке подразумевающие только меня… Теперь я видел в них только крик человека, оглушенного непониманием.
…Я всё время хочу быть к тебе как можно ближе. Я чувствую тебя, знаю, когда ты набираешь мой номер и угадываю телефонный звонок прежде, чем ты позвонишь. Но ты отдаляешься, я не могу не видеть, как ты нарочно хочешь этого, – хочешь, чтобы тебя оставили – но как я могу оставить тебя? Вчера, выходя из дома, я хотела больше не возвращаться, – мне тяжело слушать тишину, когда ты молчишь, я так и не научилась понимать твоё молчание. Когда я говорю, как будто бы в никуда. Самое ужасное, это когда ты молчишь. Я ничего не могу сделать. Ты не слышишь, ты далеко. Это самое ужасное.
Это ли самое ужасное? Мне ничего не стоило сжечь эти строки. Я перестал чувствовать её слова, давным-давно забыл запах её духов, которым когда-то была пропитана каждая страница, написанная её рукой. Чёрная дыра памяти сожгла её письма намного раньше моей зажигалки. Что мне стоило поджечь уже сожженное?
Уничтожить всё сказанное Аллой было гораздо сложнее. Я написал на бумаге все слова, которые она мне говорила, и бросал их с моста, в тёмную, живую воду, бегущую вперед быстрой рябью. Я сбросил «никто не гладил меня по волосам так, как ты» неподалеку от «я помню твои холодные руки». Я выбросил «проводи меня», а после «а тебя?». Я лишился «пока» и «привет», лишился её рассказа о любимой книге, выбросил наш разговор в электричке, выбросил «ты забыл про браслет». Я выбросил даже незначительное «как ты съездил к морю?» и бесценное «я хочу гулять с тобой по чертополоховому полю». Я все слова между нами выбросил. Если бы я мог, я бы полетел с моста следом за ними. Если бы я мог исчезнуть, как эти слова, растворяясь в воде чернилами и листом бумаги. Но я не мог. Ещё рано – лететь с моста. А как просто, казалось бы…
Я выбрасывал слова в воздух, огонь и воду, чтобы опустошить себя изнутри. Но я выбрасывал только слова, – бессловесная суть моей жизни была бессмертна, а слова всегда появлялись вновь – они тянулись к невысказанному, забытому образу, желая смять его, втиснув в словесную форму. Лишь несколько писем я оставил, когда понял, что выбрасывать слова так же бесполезно, как вынимать из часов батарейку.
Дорогая Анна. Ты сейчас, вероятно, сидишь за кухонным столом, вечно покрытым грязной посудой, и пьёшь крепкий чай из своей извечной матово-красной кружки. Ты положила в чай три ложки сахара, если у тебя хорошее настроение, и ни одной – если плохое. Я всегда хотел сказать тебе, как всё-таки нелепо измерять настроение в сахаре.
Но теперь мне, кажется, нечего тебе сказать. Зачем ты вечно звонишь и задаешь вопросы? Я всегда отвечаю одно и то же. Зачем ты спрашиваешь о моём здоровье? Ведь с тех пор, как я выбросил в урну мешок лекарств, я совершенно здоров. Я не могу не отвечать на твои звонки. Ты всё ещё живешь во мне какой-то навязчивой тенью, и у меня нет сил, чтобы избавиться от этого призрака. Но я не могу говорить с тобой долго и откровенно. Я не могу открывать тебе себя, как делал это нашими длинными вечерами. Потому что я уже шагнул за черту невозврата, и теперь запираю все мысли на ключ перед разговором с тобой.