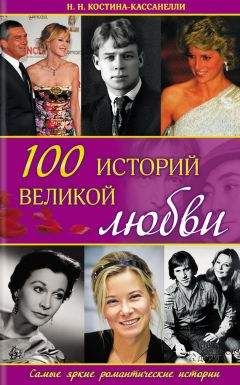Милк, луганский талант, читал свой пронзительный, наверное, до конца понятный лишь тем, кто родился и вырос здесь, но оттого не менее скребущий и царапающий по сердцу рэп. Каждое слово било в точку, и из этих как будто острой иглой проколотых точек начинало сочиться. У кого-то наружу, у кого-то внутрь. Война – такое место, где из человека выдавливают то, чего у него больше всего. Я чувствовал, сколько грязи уже вылилось из меня, а сколько еще сидит, ждет своего часа?.. И какова цена моим моральным ценностям, если, конечно, они еще у меня есть? Несомненно лишь одно: то, что осталось, стремительно девальвирует. Мои акции не котируются даже на моей собственной бирже. «Здесь все твои взгляды ломают быстро». Это точно, особенно когда ты не сопротивляешься, а плывешь по течению, как кусок самого обыкновенного дерьма…
Дождь внезапно хлынул так, что старенькие дворники захлебнулись под его напором, и только радио, неподвластное стихии, по-прежнему гнуло свое:
«Черствые души, честные лица, Бабосы на счет и в путь за границу. И как же не сбиться с пути, что положен, Наверно, увы, почти невозможно. Я родом с Донбасса, из Луганской области. Я родом с Украины, читаю эти повести – Двадцать лет прожив, я не могу понять: Как можно власть делить и всю страну ломать».
Я вырулил к обочине. Меня реально ломало. От песни, от того, что я сделал и что мне еще предстоит. От людей рядом. И от тех, кто остался очень далеко. Это было, как душевная рвота. Из меня выворачивало все: мои запутанные отношения с матерью, непогашенные и неизвестно зачем набранные кредиты, вкрадчивый и бесстыжий шепот Юльки: «Вот вернешься – и сразу свою квартиру купим, машину. И будем жить сами, без всяких сопливых младенцев, в свое удовольствие, а не как некоторые – нищету плодить, чтоб на “материнский капитал” ипотеку выплачивать!» Я ощущал, как она, моя красивая девушка, не отягощенная никакими комплексами и не испытывающая к «сопливым младенцам» и их матерям ничего, кроме презрения, терлась о меня своей круглой, загорелой в салоне задницей с узкой полоской стрингов. Она стимулировала меня – чтобы я не сдернул, не передумал ехать сюда. Ей хотелось замуж, но не просто замуж, а так, чтобы подружки вздыхали. Наверное, ей, столь же красивой, сколь и недалекой, казалось, что она изловила в свои кружевные сети этакого супергероя-мачо-Рэмбо – с боевой раскраской на лице и автоматом наперевес, косящего укров-бандеровцев направо и налево. Да уж… Чего греха таить – еще совсем недавно мне и самому виделась та же раскрашенная, лубочная, завлекательная голливудская картинка. «Месяц боевых действий – пять тысяч баксов. Отдельные премиальные за убитых бойцов противника и уничтоженную боевую технику». В последний наш вечер мы не столько валялись в постели, сколько сидели на кухне, где под бюджетное игристое Юлька делово хмурила бровки.
– Три месяца, допустим… больше эти хреновы вояки не продержатся, – авторитетно заявляла та, что не видела никакой войны, кроме как в дешевых сериалах. Однако умножать в столбик она умела прекрасно. – Три месяца – это уже пятнадцать. Да премия! Да, допустим, военные трофеи…
Бирюзовые, нежные, славянские глаза моей девушки горели кровожадным огнем – может быть, это ее нужно было отправить сюда? За трофеями, скальпами, золотом Индианы Джонса и черной икрой, которую вчера наши начальнички грузовиками вывозили из разграбленного супермаркета вместе с дорогим алкоголем? Меня взяли в охрану, и я наблюдал за тем, чтобы местные любители халявы не путались под ногами. Впрочем, они тоже своего не упустили – деловито, не обращая внимания ни на что, кроме возможности безнаказанно пограбить, они набивали прицепы и багажники. Не имеющие машин тащили сахар, гречку, муку и стиральный порошок в свои норы прямо в магазинных тележках. Упорно пыхтя, толкали их в горку, несмотря на то что город обстреливали – частично «наши», а может, и «укропы», кто там разберет. Честно говоря, логикой в этой странной войне не пахнет.
– Какие трофеи, Юль? – вяло отбивался я, и дешевое шампанское, которое мы так и не допили, испускало последний дух в пыльном хрустале, вытащенном по такому случаю из родительского серванта. – Ты что, думаешь, я у покойников буду золотые зубы вырывать? Или мобилы из карманов выворачивать, чтобы в тамбовский ломбард сдать?
– Ну зачем же мобилы? – нетерпеливо постукивая о стол накладными когтями, рассуждала та, которую я когда-то так жаждал. – Ты, главное, не теряйся. Говорят, там по селам до сих пор старинные иконы, монеты, книги и серебро можно… купить. Или выменять. Ну, или – сам понимаешь, если хозяев нет – то почему не взять? Война же! И потом – они там все та-а-акие тупые! Выродки! Цены ничему не знают. Небось слово «антиквариат» и не слышали никогда. А ты как-никак человек искусства.
Некстати вспомнив, что я – человек искусства, до последнего времени крайне далекий от всего, связанного с войной, она спохватывалась и испуганно добавляла:
– Ну, тебя-то не убьют? И потом – ты, главное, береги себя. Ну, и следи, чтобы деньги вовремя на карточку сбрасывали. И все будет хорошо, нам и без ихнего барахла на все хватит, когда ты вернешься?..
Когда я вернусь… А вернусь ли я? Что-то сейчас мне слабо в это верится. Говорят, на любой войне выживают либо очень осторожные, либо совсем бесшабашные, которых и пуля не берет. А я так… ни рыба ни мясо… глупый пингвин. И если мне сейчас так хреново, то что ж говорить о том человеке, который лежал на полу между сиденьями за моей спиной? Что он чувствует – ведь знает, куда его везут и зачем…
Небо вспорола молния, еще одна, и грохнуло так, что заложило уши. Я больше не слышал ничего: ни своего сердца, ни этой музыки – да и не музыка это была, и не поэзия… даже не проза. Это был вопль обреченного на вечную муку непонимания другими… такими как я. Тот, за моей спиной, – он тоже был из местной, несгибаемой породы. Лучший из лучших… которых мы изведем, выкурим, выбьем отсюда, оставив здесь таких, как Веник… Псих… я. Которые меряют все тоннами – но не угля, а зелени, бесчестно срубленной, распиленной, выжатой, отжатой… Эта земля для нас – ничто, пустое место, полигон, точка разлома. Мы сами – перекати-поле, нам хорошо везде, где есть доступные девки и дешевое пиво, поэтому мы не верим им – иным, не похожим на нас. Мы не понимаем, не постигаем, как можно погибать за эту бесплодную, неприветливую, некрасивую землю, которая и прокормить-то не в состоянии… Родина? Она не моя. Это не та Россия, за которую я собирался умирать. Ее здесь никогда не было – это оказался миф, дешевая сказка на ночь для толпы жирных, глупых, ограниченных, одураченных… словом, для миллионов Егоров Грековых. Это место – Родина того, тяжело дышащего, молчащего, ждущего своей участи с таким достоинством, от которого у меня, его убийцы, мурашки идут по коже. Если бы он просил, выл, стонал, осыпал меня проклятиями, мне было бы легче.
Дождь все хлестал, барабанил по крыше – степная гроза, напряжение, выплескивающееся через край. Как будто военный конфликт, противостояние нас и тех, других, до предела зарядило грозовые батарейки. Небесное электричество раз за разом оглушительно обрушивалось на землю, а вода пыталась смыть с нее кровь, порох, пот, перегар…
– Эй, – грубо сказал я, доставая из кармана телефон, принадлежавший не мне, а тому, кто даже глаз на меня не поднял: много чести мне, наемнику, похитителю, поддельному доктору, фальшивому человеку… – Где здесь твой отец? Сможешь набрать?
– Зачем тебе еще и он?
– Мы же обещали тебя отпустить… Мы свое слово держим. Звони, пусть забирает.
Он ухмыльнулся – насколько позволяли разбитые губы:
– Нет уж… мало получили? Хватит с вас и меня. Ваше слово я хорошо усвоил. Пошел ты на хер!
Он отвернулся, насколько это было возможно, и закрыл глаза. Телефон так и остался в моей протянутой руке. А что я хотел? Чтобы он купился на это, как последний лох? Чтобы с его отцом случилось то же, что с ним самим, доверчиво севшим в нашу «скорую»: нетерпеливо вглядываясь в кромешную тьму за окном, он, несмотря на опасность, ехал спасать БРАТА. А попал к нам… Братья-славяне, братья по разуму… И теперь он принял единственно правильное решение: защитить того, кого любит. Защитить от нас – жадных и неразборчивых в средствах. Семьдесят процентов жертв похищений не выживают… такая статистика, брат. Интересно, он знает об этом? Или ему достаточно того, что довелось услышать, имитируя отключку? Он лежал неподвижно, закрыв глаза и почти не дыша не потому, что хотел подслушать наши тайны, нет. Все было гораздо проще и прозаичнее: человека без сознания бить не будут, попадая в то, что и без того болит нестерпимо. Он лежал без движения, потому что так легче было дышать. Короткий вздох сквозь сломанные ребра – это пытка, бесконечная пытка, потому что нельзя перестать дышать совсем. Саднит кожа на руках, содранная наручниками, и он лежит в луже собственной мочи с кровью – потому что били по почкам. Но им все мало – этим ублюдкам, – поэтому единственное, как можно избежать новых мучений, это выключиться. На самом деле или просто закрыть глаза и не шевелиться на грязном бетоне – теперь уже все равно…