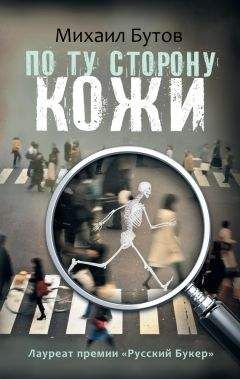Не было бы, наверное, ничего плохого, выскажи Александр Васильевич ей все это вслух. Он не решился. Кажется, вообще не сумел найти каких-либо подходящих слов…
Но с того дня он стал задумываться, верно ли поступил, устроив дочь в известную на весь город школу с литературным уклоном, и не проглядел ли чего-то, чем окажется она обделена там, так что нехватка эта перевесит в конечном счете многие очевидные и бросающиеся в глаза стороны положительные.
А все-таки девятнадцатый век, сказал себе Александр Васильевич, не худшее и так далее… Маша будет обижена, если я не выйду поздороваться с ее гостями…
Он ткнул сигарету в пепельницу и сразу же – что бывало с ним редко, почти никогда – потянулся за следующей. Нина снимала с полок и расставляла на столике возле раковины старый чайный сервиз с ширококрылыми голландскими мельницами на чашках и блюдцах.
– Ты что, Саша? – спросила она. – Неужели действительно рассердился?
Александр Васильевич послушно вернул сигарету в пачку, обругав себя за неосторожность. Он не готов еще, совсем не готов, и ни к чему преждевременно давать ей поводы для расспросов. Спешно ответил:
– Вообще-то, она могла бы поинтересоваться сначала у нас…
– Конечно, могла бы, – вздохнула Нина. – Ну, сам понимаешь… Хочешь, я поговорю с ней вечером? И столько, пожалуйста, не кури. Пожалей сердце.
А он украдкой рассматривал ее руки. Должно быть, признак породы – что именно здесь время оставляет следы в последнюю очередь. Волосы у нее заметно уже седеют (краситься отказывается и правильно, по его мнению, делает – ей к лицу), а руки все те же: по-девичьи точеные и мягкие. На таких не представишь себе знаков умирания – вроде тех, что расходились в месяц перед смертью по телу его отца. Вот об этом, подумал Александр Васильевич, и учили древние: вещь, отлившаяся в законченную форму, перестает испытывать изменение. Вопреки очевидности. Просто хотели верить, что плотская красота так или иначе не исчезает – даже когда в жилах под кожей останавливается кровь. Древние, которые были лучше нас и ближе к богам…
– Может, пойдешь к себе? – спросила Нина. – Я пирог еще хотела для них поставить. Шарлотку, быстренько…
С тех пор как четырнадцать лет назад, после родов, она не то чтобы располнела, но как-то сменила образ, избавилась от чуть болезненной худобы, вообще-то чрезвычайно для Александра Васильевича привлекательной, и превратилась наконец в истинную даму, он стал иногда, особенно если она бывала задумчива, подмечать в ней сходство с портретами Смирновой-Россет (с которой, кстати, где-то в генеалогическом далеке Нина и состояла в родстве, чуть ли не прямом). В такие минуты ему часто казалось, что в выражении ее глаз он угадывает все еще живую в крови и направляющую поступки уверенность в своем праве иметь и властвовать. Что-то, из-за чего ни разу за все время, которое они вместе, он так и не осмелился проговорить про себя, что эта женщина принадлежит ему. Или хотя бы мягче: что они вдвоем принадлежат друг другу.
Господи, подумал Александр Васильевич, и я должен буду…
Но заставил себя думать о другом.
Кабинетом его называлась – с определенной долей издевки – та комната, где стояла их с Ниной кровать. Когда Маше было года четыре, Александр Васильевич в первый и последний раз попробовал взбунтоваться и добивался, чтобы хоть вещи дочери хранились только у нее в комнате, а не были то аккуратно, то кое-как разложены и развешаны вокруг его письменного стола. Абсурдность его требований была тогда доказана наглядно: Нина повыдвигала по всей квартире ящики и открыла дверцы шкафов, демонстрируя, что забито все до отказа.
– Вышвырнуть, – кипятился Александр Васильевич, – выкинуть половину, дрянь, барахло, ни на что не годное…
Но не верил, само собой, ни минуты, что распоряжения его могут возыметь действие.
Отвоевать удалось только книжные полки, с которых он поснимал оставшуюся еще от Нининых родителей всяческого рода случайную литературу и наконец-то расставил в должном порядке нужные для работы книги, словари и кое-что из того, к чему часто обращался для души. Даже для пластинок выделил место: в пространство между полками они уместились впритык.
Если Александр Васильевич закрывался и садился работать, комната переходила безраздельно в его распоряжение. Нине случалось до поздней ночи просиживать в гостиной перед телевизором, когда он должен был срочно сдавать чью-нибудь рукопись или своим писанием увлекался настолько, что терял ощущение времени. Если же по вечерам комната оставалась свободна, то занимала ее чаще всего Маша. Вечно не сходившаяся с матерью во взглядах на телевизионную программу, она перетаскивала туда с кухни маленький автономный «Сапфир», в котором фигуры запросто переходили в астральный план, приобретая когда три, а когда (особенно в дождь) даже шесть или восемь отражений. И постоянно, конечно, – в силу не столько пристрастия к хозяину, сколько неодолимого тяготения к дивану, от привычки валяться на котором его, пса в остальном дисциплинированного и покладистого, так и не удалось отучить (да давно уже и не пытался никто), – присутствовал разноухий Жак: помесь лайки и колли, умеющий улыбаться.
Александр Васильевич сгреб со стола и перебросил на стул рядом какую-то деталь Нининого вязания: она вяжет по утрам в кровати, просыпаясь первой и дожидаясь момента, когда нужно будет вставать и готовить завтрак. Умудрился уколоться тупой спицей, а потом долго сидел, глядя перед собой и вращаясь из стороны в сторону в одноногом канцелярском кресле. Растянувшийся на полу пес чуть приподнял голову и открыл только один глаз.
– Не показывай, не показывай, – сказал Александр Васильевич. – Я все знаю. Ты ленив гениально. Как истинный раблезианец. Жизнь твоя достойна назидательного описания.
Жак с усилием, медленно поднялся, сделав по очереди всем, что у него было, массу разрозненных движений, прежде чем утвердился на четырех лапах весь целиком. Потом потянулся с плебейской оттяжкой: волной, от головы до хвоста, так прогнув спину, что почти пола коснулся пузом. И с опозданием, будто не сразу вспомнил, что и это должно входить в ритуал, заколотив хвостом по ножке инкрустированного старинного столика, поставленного у кровати, совершил шаг – ткнулся Александру Васильевичу в колени.
Александр Васильевич с силой сжал его голову ладонями, так что уши у собаки нависли над глазами, притянул к себе и чмокнул, нагнувшись, туда, где переносица соединялась со лбом.
– Жак, Жак! Кто самая умная собака, а? Самая красивая?..
Пес уселся на задние лапы и просительно прикоснулся передней к его руке.
– Ну, ясно, – сказал Александр Васильевич и стал с силой чесать ему грудь кончиками пальцев, путаясь в густой и свалявшейся кое-где шерсти. – Сеанс. Давай, что же…
Жак вывалил язык и комично закатил глаза. Юмор в таком изображении удовольствия проглядывал вполне осмысленный.
Я знаком с массой людей, подумал Александр Васильевич, которые сказали бы мне, что в любви человека к своему креслу видят признак убожества. Интересно, что все они, в общем-то, одинаково бездарны (хотя вопрос еще, можно ли быть бездарным разнохарактерно). А во всяком деле, требующем усидчивости, чрезвычайно важно, чтобы вокруг тебя не было места удобнее и приятнее, чем то, за которым работаешь. Чтобы не манили уже от стола ни телевизор, ни диван, ни променад в ближайшую рощицу. Тому, кто не нюхал самостоятельно этой кухни, трудно, наверное, поверить, какие самые незначительные с виду мелочи могут играть тут роль. Для Александра Васильевича, например, именно с появлением кресла все пришло наконец в нужное равновесие, так что даже свободные свои часы он предпочитал теперь проводить здесь. И о том, что некогда на эту покупку Нине пришлось его уговаривать, вспоминалось как о чем-то невероятном.
Курсы, где она работала, переезжали тогда в новое здание, и лишнюю мебель под шумок распродавали своим. Александр Васильевич отказывался категорически: жили едва не в нищете, по десять раз приходилось взвешивать, прежде чем решиться на любую трату, так что пускать деньги в буквальном смысле себе под задницу роскошью представлялось совершенно непотребной. В конце концов Нина втихомолку заплатила сама – какая-то там премия подоспела вовремя. А он только позже удивился, сопоставил с чем-то еще другим, когда так же к месту неожиданно оказывались ее приобретения. Откуда она знала? Он и сам не подозревал, что так сживется с этим конторским чудищем. Иногда Александр Васильевич думал, что многое могло бы сложиться по-другому, будь и у него такой же талант угадывать тонкие вещи. Откуда это в ней? Оттого, что по-настоящему любила и понимала его? Или опять-таки из ощущения обладания: так хорошему хозяину всегда отлично известно, что будет в радость его домашнему любимцу? Хотя и противоречия, возможно, нет никакого между тем и другим…