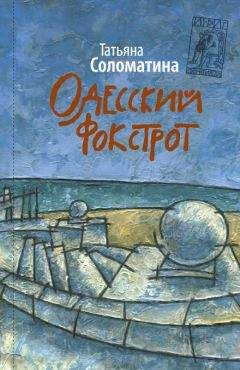Впрочем, не спорю, рецепт подходит не каждой паре. А только тем, кому плевать на государства, их независимость и вообще на всё, что с государствами связано. Только тем, кто, по меткому выражению Курта Воннегута, является «государством двоих». Так что – это тест, дамы.
В следующий раз, когда мы были в Одессе вдвоём – чёрт его знает, зачем опять и почему снова, – муж потащил меня к «тому дереву». Усадил на пень. И сфотографировал. Насколько я помню, тогда на белой беседке, непонятно от чего защищающей пень, была только надпись углём: «Саша Чёрный. Respect». Вернувшись в Москву, я написала статью об Александре Гликберге. Осознав на «том дереве», что он таки одессит. Статью опубликовали в весьма приличном глянцевом издании. И если хоть для кого-то, прежде интересовавшегося лишь кожаными штанами и меховыми курточками, я открыла прекрасного поэта и прозаика – спасибо «тому дереву».
– Ну вот! Эта фотография гораздо приличней той! – размахивал у меня перед носом отпечатанным снимком мой супруг.
– Ну-у-у… – надменно-презрительно соглашалась я.
– Что «ну-у-у…»?! – передразнивал меня муж, отчего-то жутко злясь.
Как на мой взгляд, так в смысле одежды я выглядела не меньшей гламурной дурой. На мне была странная драная юбка, больше похожая на платок, да ещё и с огромным разрезом. На ногах – не менее странные сапоги, внизу замшевые, сверху – вязаным чулком. И совершенно чумовая розовая меховая курточка. Стрижка была короче прежней. И я совершенно идиотски улыбалась в объектив. Видимо, «лучшесть» конкретно этой фотографии заключалась в том, что затвором щёлкал муж. Он вообще терпеть не может, если я куда-то отправляюсь без него. Хоть сто раз по делам. Не говоря уже об отдыхе.
– Нет! На той ты выглядела, как дешёвая портовая шлюха!
– Ну, знаешь! Если ты вспомнишь стоимость тех кожаных штанов и той датской курточки, то…
– Хорошо, ты выглядела, как дорогая портовая шлюха! Это меняет дело?
– В корне!
В тот раз вместо скандала был только хохот дуэтом. Эффект замещения. Смех смехом – но он приставал до тех пор, пока я не признала факт того, что идиотская фотография в розовой курточке куда лучше не менее идиотской фотографии в курточке белой.
По прошествии какого-то времени муж решил разобрать архивы, упорядочить фотографии по годам и альбомам. Чтобы мне было зимними вечерами на старости лет дело: спокойно разглядывать у камина под добрую порцию хорошего спиртного нашу жизнь. Если архивы хотя бы изредка не разбирать и не упорядочивать, то ваши внуки – а у кого-то даже и дети, – особо париться не будут. Выкинут к чертям собачьим устаревшие носители и бумажный хлам в коробках – и рефлексировать ни секунды не станут. Потому внукам, и даже детям, надо ещё при собственной жизни из этой самой собственной жизни создавать если не память, то хотя бы интерьер. На упорядоченное – рука не поднимется. Это раз. Посмотрят на то, как мама и папа/бабушка и дедушка любят друг друга – глядишь, и у самих детей/внуков с куда большей вероятностью на этих фронтах всё будет ОК. Это два. Три – рассматривать альбомы у камина под добрую порцию хорошего спиртного – отличное занятие зимними вечерами в любом возрасте. Ну и ещё четыре: «Генка думает, что пишет достопримечательность, а сам выписывает проехавшую мимо машину, спиленную акацию, замену булыжника на дурацкую тротуарную плитку. Генка считает, что ваяет “халтуру”, а сам с упорством гениального хроникёра запечатлевает детали, может статься, очередной смены эпох. Генка – писатель городского пейзажа. Новый Костанди и Бабель, смешенный в палитре текущего настоящего. Хранитель того, чего уже нет мгновением позже. Он превращает пересыхающие водоёмы времени в миражи для ещё не родившихся любителей покопаться в окаменевших корнях юрских папоротников». Это из моей «Большой Собаки». Которая где-то как-то тоже об Одессе. И фотографии – они, как и картины, – где-то как-то для тех самых любителей. Потому что важна не я. А то, что «фоном». Например, многострадальный Оперный в лесах. К сегодняшнему дню уже отреставрированный. Или натуральный якорь, не важно, за каким вытащенный на берег. Да не просто на берег, а на асфальт под Оперный.
– А где то дерево? – часа через три разбора архивов чуть не страдальчески воскликнул мой муж, потрясая почти опустевшей бутылкой «Белой лошади».
– Какое «то дерево»? – не сразу включилась я, с трудом вынырнув из перипетий очередной рукописи.
– ТО! ТО ДЕРЕВО!
Так было сказано «то дерево», что я сообразила достаточно быстро. Хотя когда меня отрывают от рукописи, я чаще всего первые четверть часа произвожу впечатление слабоумной.
– Так ты ж его выбросил. Выкинул.
– Но в электронном виде оно же должно было сохраниться! – воскликнул ненавидящий то фото супруг и запустил пальцы в волосы.
– Может быть, в старом сдохшем лептопе? – я равнодушно пожала плечами и нырнула обратно в хитросплетения жизней выдуманных героев, над которыми позже моя литредактор смеялась и плакала по-настоящему.
Старый сдохший лептоп был реанимирован. Из него было вытащено «то дерево». Сейчас «неправильная» фотография неизвестного автора в нашем семейном альбоме. Рядом с «правильной» фотографией авторства моего мужа.
И я бы про них не вспомнила до очередного зимнего вечера у камина под добрую порцию хорошего спиртного, если бы, проходя этим моим одесским октябрём по улице Пушкинской к Приморскому бульвару, не заметила, что никакого «того дерева» уже и нет. Что-то изменилось в пространстве. В матрице дважды пробежала кошка. Я остановилась и сфокусировалась. Не было ни дерева, ни беседки. Ни того, реалистичного, якоря. На месте пресловутого «того дерева», которое мой друг, Валерий Павлович Смирнов, называл «пнём независимости», торчал гламурный, отполированный, ненастоящий, скульптурный якорь. Он был насквозь фальшивым, как я, сидящая в кожаных брюках и белой курточке на «том дереве», на фотографии не помню чьего авторства. Всё-таки на понимание очевидных вещей у женщин уходит больше времени, чем у мужчин. Даже если они из «государства двоих».
Я подошла к фальшивому якорю и оглянулась. Оглянулась в поисках того, кто мог бы меня запечатлеть у этого фальшивого якоря. Но был октябрь, накрапывал противный дождик, и ко мне подошёл лишь белый мокрый кот. Он потёрся о брючину моего дизайнерского костюмчика, прикупленного в калифорнийском бутике за вполне, по одесским меркам (и я уже не говорю о московских!), более чем терпимую цену. Я присела и погладила белого кота. Кот обтёк игрушечный якорь, воткнутый на месте «того дерева», и вьюном нырнул под мою ладонь.
– Если я попрошу тебя сфотографировать меня на фоне этого якоря, это же будет смешно, да? – спросила я у кота.
Он посмотрел на меня, подняв левую бровь, и хмыкнул.
– И что, скажи на милость, символизирует этот очередной нелепый одесский памятник? – попыталась уточнить я.
Кот брезгливо потрусил правой передней лапой и перетёк на другую сторону Ласточкина, к японскому ресторану.
Памятник неизвестному белому коту
В начале девяностых годов двадцатого столетия никому не нужная прежде дача Ковалевского с её перекошенными домиками, никого не интересовавший Алмазный переулок с его каловыми миазмами и прочие стоковые Поля Чудес в районе мемориальной Четыреста одиннадцатой батареи вдруг стали невообразимо востребованными – и, как следствие, земля тут скакнула в цене.
Урвавшие скоробогатые не слишком ещё понимали отличие большого сарая от особняка. А Петровна – понимала. Потому что по молодости частенько бывала за границей. Муж её работал во Внешторге. И был не то шпионом, не то контрабандистом и спекулянтом, не то вором. Не то всем перечисленным сразу. Многогранный и образованный был человек. Только уже очень старенький. Петровна была моложе его на двадцать шесть лет. И если ей в начале девяностых было пятьдесят, то ему уже… Тем не менее, Петровна относилась к своему почтенному супругу со всё таким же девическим трепетом, несмотря на то, что давно превратилась в прожжённую бабу-деловара. Благодаря его накоплениям – местами, прямо скажем, в золотом эквиваленте – она открыла сетевой бизнес. Благодаря его советам – не прогорела, а напротив – неприлично разбогатела. Обзавелась «Мерседесом», прикупила большой кусок земли, прилегающий к одесскому Мемориалу Второй мировой и Великой Отечественной. С видом на море. И обратно. И решила строить особняк. Как женщина, достаточную часть сознательной жизни проведшая в безобразном оскале капстран, она отлично понимала разницу между большим сараем и особняком. Потому архитектора выписала из Москвы. Она собиралась сделать всё правильно – с геодезией, проектом, дизайном интерьеров и всем прочим. И из лучших материалов, доступных за деньги при наличии не только понтов, но и мозгов.