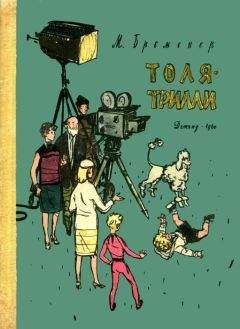– Но ты же в малице был? – спрашиваю его.
– Да.
– Как же поморозился?
– Не знаю.
Малица – меховая рубашка с зашитыми наглухо рукавами. Если ее не снимать, рук не поморозишь, ясно. Ненцы вообще редко обмораживаются. Этот, видать, крепко выпил и снял малицу…
– А семья есть?
– Нет. Я один.
– И не женат?
Вопрос глупый. И он простодушно отвечает:
– Где же ее найдешь на Ледовитом океане… Я месяцами один!
– А если что с рукой?
– Не знаю, – крутит головой. – Я ничего больше не умею делать. Умею попадать дробиной в глаз зверю.
На другой день мы сидим у Набойщикова в теплой квартире. Жена его тоже врач, хлопочет по хозяйству. Между делом ведут разговор. О том, что в клинику вчера поступила девочка, такая веселенькая, хорошенькая, а сегодня приходят…
– А этот… Ну, охотник? – спрашиваю не без опаски.
Так же просто Володя говорит:
– Ампутировали… Гангрена. По кисть, пока.
– Как же он жить-то будет?
– Так и будет. Если будет. – И предлагает выпить, чтобы уйти от неприятных разговоров.
С Гринером же было так. Я довольно часто наезжал в Воркуту, знал его детишек и все удивлялся, что они такие разные. В старшем ничего от папы и мамы, угрюмый малый, с узким лбом из-под челки, с короткой шеей и длинными сильными руками, похожий даже походкой на гориллу. Мне не удалось с ним ни разу поговорить.
Из-за него-то и начались у Гринера неприятности.
Однажды приехал он в Москву в особенно скверном настроении, я таким его прежде не видел. Мы выпили, и он в порыве откровения поведал мне историю своей семьи.
Работали они тогда с Эммой в геологической партии на Севере, жили в избушке, и однажды им подбросили грудного ребенка. Эмма выдала ребенка за своего. Лет через пять у них родился мальчик, курчавый ангелок, добрый и тихий, я его, кстати, знал.
Но все делалось в семье так, чтобы первому было лучше… Это и понятно. Родительские комплексы. Но старший подрос, и началось…
В школе, в старших классах, стащил телевизор, пропил, Гринер едва вытащил его из милиции. Все друг друга знают, помогли. Потом по пьянке подрался, избил кого-то…
Попытался Гринер через военкома, тоже знакомого, спихнуть парня в армию, а тут новое преступление…
Эмма слегла с сердцем, Гринер вымотал все нервы: в городе, где его уважают, такие вдруг дела. Встал вопрос об отъезде…
Это было как бегство, они даже квартиру не реализовали.
Жили (доживали, наверное, будет точней) под Киевом, в домике отца, не очень ухоженном, две комнатушки и веранда. После его смерти дом перестроили, утеплили и даже пригласили меня в гости. С Люсей, Борисом и Садовниковым, когда ездили по Украине, заезжали к ним и были тепло приняты. Дом Гринеров по-прежнему хлебосольный.
Эмма прибаливала – она так и не смогла оправиться после Воркуты, – а Валентин хорохорился и показывал какую-то шубу, которую сам сшил, пройдя учебу у здешнего скорняка.
– Овладеваю новым ремеслом, – пошутил бойко. – Надо, понимаешь, зарабатывать… На пенсию не вытянуть, да еще после северных замашек.
– А дети?
Специально спросил так расплывчато. Захочет – скажет, а не захочет… И он тут же заговорил про младшенького, Женю, который окончил в Архангельске медицинский институт, пошел по маминой дорожке, женился, работает хирургом в больнице…
А однажды, году так в девяностом, раздался у меня дома звонок: Гринеры в Москве, все сразу, и на следующий день уезжают в Израиль.
Нам так и не удалось тогда встретиться.
Осталась коротенькая записка.
Недавно, разбирая рукописи, я на нее наткнулся. Размашистый почерк, всего несколько слов: «Завтра утром я покину нашу великую державу и отбываю в полную неизвестность. Без денег, без здоровья, а уж о прочих муках говорить не приходится. Очень жаль, что не пришлось нам встретиться в Москве. Буду жить надеждой на свидание в другой стране, если на то будет Божья воля. Обнимаю. Всегда преданно твой Вал. Гринер. 9.11.90 г.».
А потом пришло письмо из какого-то маленького городка в Израиле, где все они поселились. Женя и его жена работают, а сам Гринер с Эммой как бы предоставлены себе. Полная пустота и холодное одиночество. В тундре было, писал он, не так пустынно…
Нелегкое было письмо. Я сразу не смог на него ответить.
Потом, как бывает, затерял конверт с адресом. А другого письма не последовало.
Где-то на стенке, в старой квартире, рядом с автографом Яна Вассермана были начертаны – в какой-то приезд – и стихи Гринера. Обои сменились, да и квартира с тех пор менялась не раз, а стихи остались в памяти.
Среди родни святой затертых божьих ликов
Живет Приставкин мой большой, но не великий…
А если, вознесясь на небеси земные,
Он крикнет: «Дай мне власть!» Не дай ему, Мария!
Пусть среди нас живет, покуда мир не вымер,
Не то его убьет не Каин… Валя Гринер!
А я вдруг вспомнил, как Валя однажды исчез и дня через два появился с пимами из оленьего меха. Такие пимы делались на заказ и в самом городе, но Вале захотелось подарить нечто необыкновенное. Он исколесил сотню километров по тундре, чтобы найти аргиш, кочующее стадо, а в нем белого оленя и из его камусов (срез с ноги) изготовили маленькому тогда моему сыну Ванюшке и его маме две пары белых-пребелых сапожек, разукрашенных по голенищу цветными лоскутками кожи. Это было произведение искусства.
– И не жалко? – спросил я Валентина. – Оленя? Да еще белого?
Он засмеялся, открыто, как ребенок:
– Его в тот день уже отловили на заготовку.
– Врешь небось?
– Может, и вру, – согласился он. – Но… сделали-то красиво?
– Красиво.
– И форсите на здоровье. Ни у кого в Москве таких вторых не будет.
Это правда. Ни у кого таких сапожек не было.
Но для московской сырой зимы они оказались малопригодны и провалялись на антресолях зиму или две… Пока их не сожрала моль.
Я плеснул «Плиски» в золотой колпачок.
– Гри-не-ры-и!.. – заклинал. – Ну не исчезайте же, черт возьми!
Из России, ладно. Но будьте хоть где-то, в этом не лучшем из миров…
В Ялте, на семинаре народов Севера, собрались якуты, селькупы, ненцы… Распахивали в изумлении косые щелочки глаз на цветущую глицинию, на зеленые листья лавра, на море, посверкивающее за верхушками кипарисов, и погружались… в питие.
Семинаристка Дуся, коротенькая, как подросток, ножки кривые, а грива черных волос до колен… Пишет песни, сказки и душевно рассказывает про бабушку…
– Как исполнилось мне двенадцать лет, – говорит, – вошла в чум бабушка с трубкой во рту и поздравила… Всего тебе, внучка, хорошего, говорит, учись, расти, а подарок-то я тебе возле чума поставила… Выскакиваю, у выхода вижу: бабушка у меня доб-рень-кая… Целый ящик водки подарила! А потом подросла, стихи писала. Нам объявили, что поэт из Москвы прилетит, расскажет, как писать стихи надо. А он в самолете-то принял, а в Иркутске его уже в другой самолет переносили. К нам когда прилетел, положили в гостинице, укрыли потеплей, мы на цыпочках ходили, чтобы не потревожить… А как стал уезжать, снова в самолет снесли, в Иркутске опять пересадили, а к Москве, говорят, он уже сам мог идти. О-очень хороший поэт был…
– Да знаем, знаем, сами были… – откликаются за столом. И уже звучит мотивчик такой знакомый… – «Из полей до-но-си-т-ся на-а-лей!»
– Господи, и это мои дружки… А еще интеллигенция… А шуточки-то на уровне… Да и все ли тут?.. Тезка мой, Шумов, где?
Возбужденные лица… И вижу знакомую бороду…
Доверчивые осетры (Отец Анатолий Шумов)
Нашу семью: меня, жену и ребенка – поселили на третьем этаже блочного дома, неподалеку от обводного канала. По утрам я мог наблюдать из окошка белые палубы и косые трубы судов, выглядывающих из-за бетонного парапета, казалось, они плывут по воздуху. Их гудки напоминали о дальних странах.
Моя родина далее проверенной и надежной Болгарии меня не отпускала. А в идеале рекомендовалось познавать свое, родное, исконно-посконное, глубинно-кондовое, что я и делал.
Чтобы не ощущать себя обделенным, на отшибе, оклеил я стены своего жилья географическими картами. Да и обои все равно не продавались. Зато карт сколько угодно, и некоторые выглядели живописно, как, например, карта природных ископаемых или карта по истории страны, где на месте моего нынешнего обитания жили хазары…
На одной из карт мы нарисовали цветным карандашом путь, проделанный нами от Москвы до Балакова.
Мы приехали в группу рабочего проектирования на строительстве саратовской гидростанции, ее возводили чуть ниже поселка. Но если по правде, мы начинали тут строить собственную жизнь. Надо было зарабатывать на хлеб, а мои книжки были надолго запрещены, да и сам я, после Севера, как бы уже и не существовал.
Должно пройти время, так говорили друзья. Чтобы забылось, стерлось… А для этого лучше куда-то уехать. И выпало нам Балаково, о котором никогда прежде не слыхивал.