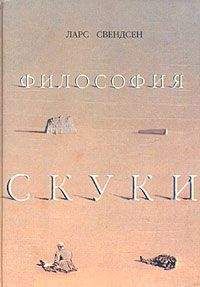– Мы же не воспитанники английского колледжа, чтобы после ночи однополых утех строить из себя благопристойных мальчиков, – разглагольствовал в постели Мезряков. – Нам не надо притворяться невинными крошками, мы уже взрослые, чтобы любить открыто.
– Не знаю, – наморщился Лецке, – чего в англичанах больше – ханжества или распутства.
Мезряков вскинул бровь.
– Удивляете, Антон. Что такое распутство?
– Всё, в чем нет любви. – Лецке почесал лоб. – Вся эта воспеваемая сексуальность, чистая физиология. Да и всё кругом, что делается лишь из удовольствия – тоже.
– Да вы моралист, Антон! Кто бы мог подумать.
Мезряков положил ему на бедро горячую ладонь, сбросил простынь, и вскоре Лецке уже постанывал в его объятиях.
Может, им стоило одеться, как подобает? Джинсы в обтяжку, чёрная рубашка с металлическими кольцами вместо пуговиц, серьги, затемнённые очки в роговой оправе. Может, стоило регулярно посещать вечеринки в гей-клубах? Но к чему это? Слиться с толпой гомосексуалистов – всё равно, что с толпой футбольных болельщиков. Стать стереотипом, какой уж тут протест. Может, им стоило брать билеты на ночной сеанс, когда в кинотеатрах идут порнофильмы? И предаваться похоти на заднем ряду, где мастурбирует престарелый слюнявый горбун? Но зачем это? Подобные развлечения совсем не в их вкусе. У них хватало занятий и без этого. Их глаза горели огнём. В них читалось желание. Они снова и снова обладали друг другом, становясь одной плотью. Но телесная оболочка слишком тесна, чтобы выразить всю силу любви. Настоящая любовь больше физического влечения и даёт больше, чем сладость вожделенного единения, тайна эроса заключается в его мистическом смысле, который постигают лишь избранные. И Мезряков с Лецке попали в их число. Их отношения развивались в удушливой атмосфере тоталитарного режима, когда над страной повисла вездесущая тень диктатора, но они вцепились друг в друга и были счастливы. Каждая пара проживает любовь по-своему, на свете нет похожих любовников, и наши герои подтвердили это. Над ними сгущались тучи, а они философствовали в постели. Соскучившись по лекциям, Мезряков читал их единственному слушателю. Он говорил убеждённо и страстно, в паузах глубоко затягивался, прикуривая одну сигарету от другой.
– У простых людей и мир примитивный. Он сводится к трем «д» – деньги, дом, дети. А всё, что выше – от лукавого. Они сознательно отрекаются от тайны мира, убеждённые, что это не их ума дело. За неё отвечает Бог. Так им проще. Потому, что в душе у них живёт страх.
– Может, так и надо? – вздохнул Лецке. – Может, это рецепт счастья? – Он посмотрел на Мезрякова, как ученик на учителя. – Давайте, я расскажу вам историю, довольно длинную. Потерпите?
Мезряков кивнул.
– Был у меня знакомый, назовём его NN, старше меня и гораздо умнее. Он разменял шестой десяток, а у него не было угла, где можно было это оплакать. «Пора уходить», – как-то при встрече сказал он. Я произнёс обычные в таких случаях слова. Он отмахнулся, протянув вырезанное газетное объявление: «Вот, думаю нанять». «Сиделка к престарелым, – значилось на клочке бумаги. – Своевременный уход гарантирую». Я рассмеялся. «Мы играем в слова, – серьёзно заметил он, – слова играют нами».
– Тонкое замечание. Надо взять на вооружение.
– Берите, NN был абсолютно равнодушен к плагиату. Жизнь для него сводилась к службе, но он был абсолютно не востребован. Доктор философии, он редактировал популярный журнал с глянцевыми красотками на обложке, а когда сотрудники расходились, сдвигал стулья и спал, не раздеваясь. Его ночлег зависел от милости сторожей, а обед составлял суповой концентрат, приготовленный в кружке с помощью кипятильника. Но NN не роптал. Он презирал богов не меньше, чем кабинетных учёных. «Меня невозможно обидеть, – бравировал он. – Я прощу не то что Создателя – чёрта в аду!» Но годы давались NN всё труднее, а единственными Пятницами в его робинзонаде оставались сослуживцы. Он влачил одиночество, как стоптанные башмаки, и, несмотря на железную маску, был чудовищно раним. Казалось, он держит мир на острие шпаги, но готов расплакаться на груди у чиновника, заговорившего вдруг человеческим языком. Раздавленный житейской пятой, NN охотно рассуждал об отвлечённых материях. По его выражению, философия растёт из лингвистики, и он мог с жаром доказывать, что мир – это иллюзия, объективная реальность или произвольное слово, будь то «Бог», «природа», «любовь», «туман» или «белка в колесе». Конечно, его аргументы были скорее оригинальны, чем убедительны, и NN мог запросто проесть плешь: всё, пришедшее в голову, казалось ему достойным слов. Он был в курсе газетных сплетен, мог часами распространяться о тождественности бытия и небытия, конструктивности деконструктивизма или десакрализации власти. Вам ещё не надоело?
– Ну что вы! Слушаю с интересом.
– Первое время я тоже с любопытством слушал, как NN поет на разные голоса. «Фигня это ваше общество потребления! – передразнивал он молодых бунтарей. – Впереди осла повесили морковь: кажется, вот-вот схватит, а уж пора и копыта протягивать!» И тут же брюзжал, имитируя старого скептика: «Прогресс? А разве в мерседесе люди счастливее, чем в рессорной коляске?» Однако его сентенции были на одно лицо. «Человек начинается там, где начинается его воля, – распинался он на манер школьных воспитателей, которых затем высмеивал: – И там же кончается. Остается робот». Я начинал уставать. Но NN упивался собой и не замечал моих подавленных зевков. Высокий, с длинными седеющими волосами, он походил на призрак далёких времён, случайно забредший в нашу эпоху. Его гардероб сводился к помятому, выцветшему костюму, который за десятилетие изучил все кости владельца. Однако в своей неустроенности NN видел лишь отражение вселенской чехарды, лишнее доказательство мирового хаоса. «С возрастом исповедуешь безразличие, – говорил он, по-собачьи заглядывая в глаза. – В лесу – болото, в болоте – мох, родился кто-то, потом издох». Когда однажды утром он скончался от инфаркта, это заметили лишь к вечеру. NN сидел за столом с открытыми глазами, кулаком подпирая щёку. Хоронили его за казённый счёт. Когда я пришёл в покойницкую, он лежал один, чураясь компании даже после смерти. На щиколотке синел номер, но тело ещё не обмывали. «Пускай накопятся, – объяснил санитар, сматывая шланг, – чего ради одного мараться».
Лецке замолчал, потянувшись за пачкой сигарет. Опережая его, Мезряков подал, вытряхнув одну.
– Да, пожалуй, рецепт трех «д» предпочтительнее, – щелкая зажигалкой, сказал Мезряков. – Деньги, дети, дом. И точка. Но наша ли вина, что мы живём в эпоху распада? Нам просто не повезло. И сделать с этим ничего нельзя. – Он рассмеялся. – Разве что писать свою философию в будуаре.
– Вы забыли, я яростный противник книг. Почище Сократа.
– Да, помню. К тому же Платон из меня никакой. Что ж, остается забиться в щель, никому не мешать и не вызывать зависти.
Лецке смотрел на него с обожанием.
А спустя несколько часов записывал себя на веб-камеру:
«Владислав ушёл в библиотеку. Он старается придерживаться своего прежнего распорядка. Я не мешаю. В конце концов, я же не капризная женщина, чтобы требовать постоянного внимания. Владислав болтает без умолку, точно боится тишины. От счастья? Надеюсь, что так. Или для него мысль неизреченная есть ложь? Во всяком случае, его девизом могло бы быть: „Dico ergo sum“. Прошедшей ночью я рассказал ему про NN. На самом деле у меня никогда не было такого знакомого. Эту историю я выдумал. Не всё же слушать его бесконечные рассказы! Нельзя сказать, что NN списан с Владислава, но всё же его образ навеян именно им. Хорошо, что он не догадался! Наверняка бы обиделся, увидев себя в подставленном мной зеркале. Владислав умён, но иногда близорук и наивен, как ребёнок. И когда увлекается, не видит себя со стороны. Интересно, что бы он делал, если бы онемел? Как-то он обмолвился, что предпочитает быть кастрированным, чем остаться без языка. Вероятно, так и есть. Во всяком случае, ночами он демонстрирует поразительную словоохотливость, отчего они делаются короткими. Зато дни становятся длинными, проходя в долгих воспоминаниях того, что он рассказал. Впрочем, я сморозил какую-то чушь. Влюблённым это свойственно».
Нажав на паузу, Лецке рассмеялся, потом снова включил веб-камеру.
«Наблюдая за Владиславом, я вижу, как ему осточертела Москва. Не меньше, чем мне. Мы точно приросли к ней! С этим надо заканчивать. Пока утром Владислав готовил завтрак, я уговаривал его сменить обстановку.
– А давайте уедем отсюда. Всё бросим и уедем.
– Куда?
В его голосе звучал скепсис.
– В Нячанг. Есть такой курорт во Вьетнаме. Океан, пальмы. И недалеко. До Хошимина девять часов лёта, там пересадка и ещё час. Отношение к русским прекрасное, многие знают наш язык.
Разбив на сковородку яйцо, он сел за стол, подперев ладонями подбородок.