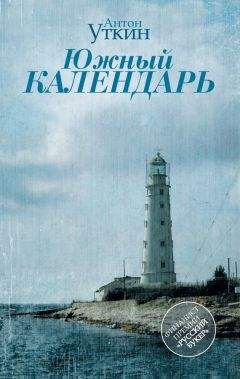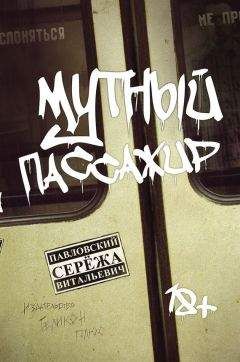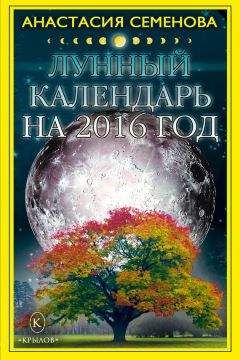Гроза с каждой секундой приближалась, ей предшествовало какое-то размытое дыхание прохладной свежести. И вот раскатилось над самой головой, словно это вспороли туго натянутое гигантское полотнище. Заметно было, как мелко подрагивающая завеса капель подвигалась все ближе и ближе, и наконец шлепками застучало по листьям и дробно, яростно – по рубероиду террасы, по железу крыши, тополя у калитки подернулись дрожащей пеленой, и воздух превратился в пестрядевую ткань. Вода сбегала с крыши параллельными пунктирами; но вот уже пунктиры слились и потекли сплошными струями, и у самого крыльца вода мгновенно налила, и тяжелые капли плясали в луже, выбивая огромные пузыри. Кусты крыжовника будто были осыпаны битым хрусталем и бисерно, серебряно переливались.
– Церковь-то как, отстроили? – спросил он, входя и зевая.
– Ку-уда, – ответила тетка, – крест поставили да огородили.
– А чего ты этим топишь? Бурьяном этим? – Он поддел носком кроссовки ворох лозы и стеблей. – Дрова-то есть?
Тетка остановилась, поглядела на него и села на табуретку.
– Ты знаешь, дверь в сарай зимой-от так примерзла, я и открыть не могла.
– А Дорофеевна чего же. Помогла бы.
– Всю зиму, считай, в Сараях пролежала.
– В больнице, что ли?
– В больнице, – закивала тетка и заговорила быстро, настороженно, глаза у нее сузились. – В дом-то к ней залезли, на санках приезжали, лошадь белая такая…
– Кто они такие?
– А кто их знает? Леня ездил туда, на ту сторону-то, искал лошадь-то эту. Откуда-то с Хуторовки, может, – она не договорила и махнула рукой.
Валера отыскал пилу, долго возился с замком, приподняв в петлях, приоткрыл дверь и рывками распахнул ее широко, сдирая нижним ее краем траву и взрывая фиолетовую землю. В сарае он обнаружил полно сухих отличных поленьев. Присев на корточки, спилил доски сантиметров на пятнадцать от земли и швырнул толстые обрезки в темноту сарая.
«Нет, тут работать что-то надо, – думал он, – делать что-то. Что без дела-то ходить», ходил, хватался то за одно, то за другое и бросал, смотрел отаву, слонялся по двору, залезал в крыжовник, брызгавший дождем, обрывал, накалывая руки, зеленые ягоды, набивал рот этой вяжущей кислотой; заходил в вишни и хлопал ладонями по стволам, истекающим смолою, и смотрел, как дружно, нехотя вздрагивают тогда на ветках ягоды.
Время тянулось нестерпимо медленно, но вдалеке между стволами посадки уже сквозило, багровело солнце и, как истрепанный половик, растянулось на западе под серо-сиреневыми облаками.
Прогнали коров. Они разбредались по дворам с протяжным, требовательным мычанием. Теткина Вечорка, тяжело ступая, словно навьюченная, вошла на зады через проулок, и стоило ей повести головой, как тетка всплескивала руками, смешно их растопыривала, и, держа в одной лозину, ласково причитала: «Вячорк, Вячорк, Вячорк», и семенила сбоку, время от времени резко и злобно, без всякой причины, хлестая пегий бок.
Ночью в простенках скребли мыши, по окнам на свету слабо жужжали, вздрагивали еще последние мухи, и все было, как и много лет назад.
Иконы помещались в углу, направо от входной двери, все вместе, и Валера думал, что когда-то очень давно казались они ему персонажами мрачных сказок.
И Валера вспомнил, как, бывало, бабка еще в сумраке, до зари становилась на колени и шелестела молитвами много минут подряд, ему чудилось – до самого утра, и слова их были похожи на звук талой воды, которая прокладывает себе путь под коркой почерневшего снега. «Богородицедеворадуйся…» Он просыпался, глядел в угол на бабку сонными глазами, и опять засыпал.
И было тепло, покойно, страшно.
Он еще поворочался в душной темноте, взял сигареты и вышел на двор.
Бледно-золотистый шар ущербной луны плыл невысоко над речкой, на другом берегу лениво брехали собаки, косогор, облитый серым светом, вырастал из тумана. Очертания деревьев расплылись в нем, мрели стены дальних построек; полынь источала горький густой запах, и влажно, свежо пахла повсюду трава.
Валере припомнилось, как зимою в Москве на чьем-то дне рождения к нему прицепился один с четвертого курса, пьяненький: «Это ты под Моршанском где-то, по-моему? Мы там дом купили, в деревне. Земляки, считай. Летом, знаешь, ездить. Ягодное, знаешь ведь? Нет? Ну как же нет? Верда, Ремизово, Ракша», – перечислял тот парень, смотрел вопросительно и удивленно прижимал подбородок к шее. И еще Валера вспомнил, как ему стало отчего-то неудобно от всех этих слов, и как он ничего толком не отвечал, и заговорил о чем-то другом, и не знал, как от него отделаться.
Перед тем как уйти в дом, Валера бросил взгляд на поле, голубоватой полосою белевшее в темноте, и завтра решил косить. Засыпая, представил, как ходит коса с хрустящим свистом, представил, как валится вымоченная росой тяжелая люцерна, как вянет на глазах угловатыми стежками уложенная трава, как блещет тонко отбитое лезвие, представил облепившие его мокрую черноту обрезки стеблей и листьев, какая у косы гладкая ручка, смугло отполированная шершавыми ладонями.
Утром он пошел в магазин. Из дворов на него смотрели женщины – долго, протяжно, провожали его глазами, он вежливо кивал всем, ему отвечали, и он чувствовал себя неуютно под их взглядами, чувствовал себя отчего-то чужим и старался шагать быстрее.
Днем тянул помаленьку «Есенина», глядел, как носятся по небу облака, набегают на солнце, весь день последовательно набрасывают на синеву свой сверкающий хомут.
Вечером, подоив, к тетке подошли Анна и Шустиха – так ее называли. Уже в сумерках прибрел Сашка – тот с дальнего конца, продубленный, с жилистой шеей, с осторожной улыбкой на морщинистом лице, оттененном захватанной белизной полотняной кепки.
– Ну, земляк, как оно, – поинтересовался он, – в Москве-то, в столице? – и посмотрел на бутылку.
– Нормально, – ответил Валера, наливая ему и себе. – А церковь чего ж не делают?
– А кто ж ее исделает? – отозвалась тетка. – Да-а, была ить церковь. И приход был – хороший. С Верды ездили, и венчали, и отпевали… Это еще бабка твоя мне рассказывала: батюшкину мать как выносили – священника того, что здесь был, – пояснила она Валере. – Сто лет ей было или больше, как мать говорила, ходить уже не могла сама. Вот днем одеяло постелят ей на бугру, – она несколько раз повела руками, ладонями вниз, – перед церковью, и она сидит в просвирнике-то. И говорила, где самый этот крест, мать-то моя, что они, дети, идут, мол, поздороваются с ней, и она вроде как не слышит уже, глухая, а они тогда поклонятся ей пониже, и она увидит и тоже им кивнет эдак – вроде как увидела.
– На бугру на том… – сказала Анна и указала рукою вбок.
– Ну-ну, – закивала Шустиха, оправляя юбку.
– Там, где Николай убился в прошлом-то.
– Чего это он? Как? – вздрогнул Валера.
– Да как? Ехал в машине, – отвечала та просто, – да и перевернулась она, машина. Никуда ее теперь не берут.
– Пьяной-то был?
– А то какой? – вскинулась Анна.
Сашка сидел над своим стаканом, шумно выпускал дым, смотрел искоса, пьяно.
– Там руль-то – во… – вмешался он и приподнял кулаки. – И все в поряде.
– Такая же, как мы, теперь стала, – сказала Шустиха, не обращая на Сашку внимания, и в ее интонации послышалось Валере какое-то горькое, скрытое, но незлорадное торжество.
– Все одна теперь, – и коси, и все, – подтвердила Анна, подперев щеку рукою и уставя глаза в пол.
– Все одна, – подхватила тетка, будто эхо.
И все закивали и повторили эти слова.
– Как же это он? – спросил еще раз Валера.
Сашка вдруг рубанул воздух рукою, которой держал стакан, плеснул водкой, выругался, отряхивая пальцы:
– Мы с поминок прямо поехали, с этим, с Прудыхиным, на мотоцикле, ты его не знаешь, с Алексеевки парень, ка-ак дали сто десять – там руль повернуть – во надо было. – Сашка складывал руки в кулаки, как будто держал руль, и чуть поводил ими налево. – На этом самом месте. Во, – показывал он, – руль-то. Чуть его повернуть…
Сашка был уже здорово пьян, сидел боком, глубоко затягиваясь, втягивая щеки, и уже не прислушивался к разговору.
– Я Москву-то знаю, – перебивал он. – Знаю Москву эту. Колонна там у нас… лес возили… все возили… – он снова поднял руки: – Там руль-то, вот, – и в который раз показывал угол, под которым надо было повернуть этот злополучный руль. Потом он зачем-то вышел, ловко нырнув под поперечину косяка, и долго не возвращался.
Валера вышел следом и увидел, что Сашка лежит на земле под смородиной, положив руки под голову, как дитя; в уголке приоткрытого мокро-блестящего рта слюна пузырилась от хриплого дыхания.
– Пускай его, – сказали тетки. – Тихо лежит, не замерзнет.
Когда они разошлись, белея платками в сумерках, Сашка очнулся, бродил вокруг дома, шурша травою и хворостом, мотая лохматой головою, и, наконец, застучал в окна.
– Ишь, шляется, глаза залил, – сказала тетка, приподнимаясь на кровати. – Пущай домой идет. Наелся – вот слава богу. Эй, – крикнула она, – домой иди, дома похмелят, – посмотрела в темноту, в тот угол, где лежал Валера и сказала громким уже шепотом. – Спи, Валерик, спи… Ишь, шляется, – улеглась, закрыла глаза и несколько минут еще что-то ворчала и глуховато, недовольно бормотала.