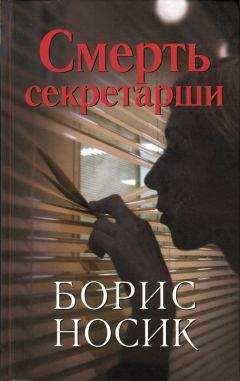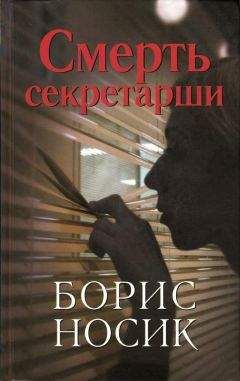– А вдруг с ним что-нибудь… – сказала Катюша, возвращая платок. – У него здоровье слабое. У него работа нервная, руководящая… Сердце подорвано…
– Не бойтесь, – сказал Зенкович. – С такими ничего не случается.
– Отчего это не случается, еще как случается, вон у нас в подъезде майор из угрозыска, ел холодец, ну буквально полчаса, как с работы пришел…
«Она его любит, – подумал Зенкович. – Она прекрасное, любящее, верное существо, а я подлец, и мне пора искать моего страдающего брата-инженера…»
Одинокая беленая хата показалась среди зелени в стороне от дороги. За оградой здоровущий мужик собирал в ведро кизил. В садике возле дома росли вишни, груши, айва, яблони, виноград, инжир…
Мужик взглянул на них искоса, продолжая работу.
«Какая идиллия, – думал Зенкович. – Мирный сын природы продает приезжим кизил, яблоки, виноград, мед, орехи, лекарственные растения, сушеный шиповник… Он сдает им койки. На вырученные деньги он покупает шифоньеры, ковры, автомашины, телевизоры, костюмы из темного сукна, нейлоновые рубахи, джерси… Он давит вино, гонит самогон, варит варенье. И он ни разу не карабкался на бессмысленный Кармин-кале…»
– Скажите, – обратился Зенкович к труженику леса, – вы не видели здесь мужика в штанах с наклейкой и в дурацкой майке с автомобилем?
– И в очках! – темпераментно вставила Катюша.
«Да, да, – подумал Зенкович. – Как же я забыл? У этого кретина были еще и очки на его бараньей морде. Как же я их не заметил? А еще собирался когда-нибудь написать роман…»
– Там он, – сказал сын природы. – Уже часа два у бабки похмеляется. Прознал, болезный, где-то, что у нас вино, пристал с ножом к горлу…
Катюша с облегчением выкрикнула что-то ругательно-ласковое, и они вошли в хату.
– Кобель! – сказала Катюша.
В ответ на это приветствие инженер нетвердо повел рукой, приглашая их садиться.
– Вино во! – сказал он и поднял большой палец, лежавший в винной лужице.
Перед ним стояли две банки, литровая и пол-литровая, обе уже споловиненные. Столетняя бабушка услужливо пошла за стаканом.
– Я так, – сказала Катюша и напилась из пол-литровой банки. – Ну-у-у, гад… Спугал ты нас. Тебя вся группа ищет. Человека вон из-за тебя потревожили…
– Человека че-з-ловек… – пропел инженер.
– Дай-ка я отолью. Да хватит тебе!
– Он вищелый… – прошамкала бабушка. – Говорит, я иж Машквы. Еще может быть. Тут вщякие ходют. А деньги у него есть?
Зенкович вышел в сад. Страдающий брат не страдал больше. Страдающая сестра утешилась, приняв участие. Сын природы молча обрывал кизил. Может, он про себя считал доходы, боясь сбиться… Зенковичу стало так скучно и тошно, точно это он сам уже вторые сутки лакал вперемешку все виды недоброкачественной спиртной продукции благословенного Крыма.
«Боже, до чего мерзостно, – подумал он, в тоске оглядывая райскую долину. – До чего все мерзостны, и я гаже всех…»
Звякнуло стекло, посыпались осколки. Зенкович поднял голову и увидел героическую фигуру подполковника. Это он швырнул в дерево бутылку, рассыпая следы своего победоносного пребывания в долине.
– Как дело? – крикнул он со странной, почти азиатской интонацией.
Зенкович подумал, что несение службы в жарких странах не прошло для его речи безнаказанным.
– Нашелся. Цел.
– Понятно! Строиться! Слушай мою команду! Собрать мешки, палатки! Выходим дальше!
Построились, конечно, не сразу. Но часа через два группа была готова к выступлению. Староста разлил остатки водки и портвейна. Выпили настоящие мужчины. Огрызков оказался в их числе. Потом туристы взвалили себе на плечи тяжеленные рюкзаки.
– Поторапливайтесь, товарищи, выступаем, выступаем, – щебетала Наденька.
Огрызков стоял в голове колонны, вслед за инструктором. Он механически включался теперь в руководящую верхушку. Шура глядела на Зенковича издали: она поняла, что ей не следует быть навязчивой.
– Господи, сидела б я сейчас дома, в палате… – вздохнула кондукторша Маша.
Зенкович отметил, что на ее долю и правда выпало совсем мало удовольствий, однако воспоминание о «доме» и палате заставило его содрогнуться.
– Скажем «до свиданья» гостеприимной долине! – козлиным голосом прокричал Марат. Зенкович различил в туристическом хоре Наденькин ликующий визг и подумал, что она-то сейчас живет полной жизнью.
Он задохнулся на первом же подъеме, но он не думал просить пощады. Он трижды заслужил эти мучения – и своей любовью к походам; и своим ночным беспутством; и своей ничтожностью… Через час-полтора пришло второе дыхание, и Зенкович начал замечать лес. Во время привала он, обессиленный, повалился на спину и увидел над собой крону грецкого ореха, огромного, кряжистого, узловатого, пережившего, по меньшей мере, пять поколений и Маратов, и Зенкевичей, и Шурочек, и немытых Земфир, и распутных Аспазий… Незнакомая многоцветная птица вспорхнула с куста и унеслась прочь.
– Родник! – закричала весовщица Зина. – Вода!
– Ты попробуй сперва, что за водичка. – Марат усмехался щедро. – Я вам плохо не покажу…
Вода была холодная, сладковатая. «Сладима, – вспомнил Зенкович. – Откуда это? Сладима… И почему сладима?» Он знал, что не надо пить много, и все же не мог остановиться. Наслаждение было острым, как оргазм. И таким же постыдным. Потом наступила неизбежная расплата. Идти стало трудней, вода плескалась в нем, как в термосе, неотступно ныло сердце, ломило левую руку. Был еще один привал. И еще. Они шли теперь по узкому каньону, стало прохладнее. Зенкович, притерпевшись к рюкзаку, смотрел по сторонам. Таинственный нерусский лес уходил в боковые ущелья. Попадались дикие яблоньки, груши. Плоды их были мелкими и душистыми. Кто посадил их? Крестьяне? Монахи? Когда-то в этих благословенных дебрях жили люди. Звонили монастырские колокола. Раздавался крик муэдзина. Татарин расстилал молитвенный коврик в дорожной пыли, там, где застал его час молитвы. Теперь здесь стоит лес, ничей лес, полный красоты и тайны. Пусть только скорее пройдут туристы, пусть они уйдут, тогда можно будет отстать. Остаться одному – лежать под деревьями, есть дикие груши и барбарис, вкушать всю полноту обладания лесом. Ведь это так нетрудно – нужно просто отстать, и все. Но они будут искать его, будут кричать, шуметь. Нет, надо сделать хитрее: когда все остановятся на дневку, ночевку, на пьянку, что там еще – он вернется, по той же самой тропе, найдет этот каньон и эти горы, и тогда он побродит один, вдоволь насладится одиночеством и спокойно подумает над тем, что делать дальше. Как жить дальше. Надо же что-то предпринять, нельзя жить так, как он живет, как они все живут, больше нельзя, не остается времени, может, уже не осталось…
Он волочил свой рюкзак до нового привала, а потом, собрав последние силы, до ночной стоянки и все лелеял в душе хитрый план, свой собственный план, тайный план. Тайну свидания…
Ничем не выдав своих планов, он собирал со всеми дрова, стараясь держаться в стороне, подальше от всех. Потом он быстро поужинал, ополоснул котелок и ушел за кусты, дальше, дальше, еще дальше, вверх по склону горы, по той самой тропе, которая их привела сюда. Потом почти бегом, пока не стали попадаться облюбованные им места, – вот он, огромный муравейник, вон старая заброшенная изгородь, грецкий орех, дикая груша… Зенкович был теперь один в мире тишины, в мире красоты и незаплеванной тайны, вдали от Маратовых шуток, от хамства старосты, от пьяной глупости, от девок и теток, от собственных недостойных вожделений. Время сочилось по капле, журчало лесным родником и замирало, собираясь в прозрачные заводи, время шелестело листвой, распадалось в шествии муравьев, вечное, всеобъемлющее время…
Зенкович лежал на прогретой, упругой земле, рвал дикие плоды и ягоды, наблюдал за птицей, бабочкой, муравьем, белкой… Они были прекрасны, и все в них было исполнено грации, целесообразности, совершенства. Только он был тяжелым, неуклюжим, у него болело сердце, и все его действия на этом свете, все его движения, все его встречи и расставания, труды и путешествия были нецелесообразны, неосмысленны, лишены стержня, лишены грации и красоты. И она уже клонилась к закату, его жизнь, а может, даже подходила к концу, а он все еще не решил, как он будет жить, что делать и главное – зачем? Зачем все было, зачем будет? Зачем он экономил время и расточал время? Зачем стяжал зеленые удовольствия и знания?
Он искал ответа и не находил. Была только одна щемящая жалость от того, что так мало уже осталось ему всего этого – и запахов леса, и пения птиц, и гор, и леса, и ощущения гладкой женской кожи, и даже обиды, даже грусти, даже одиночества… Ничего не нашел он за целую жизнь такого, что могло бы утешить в его ненасытности, в его грусти по уходящему, ничего не постиг. А где же обещанная зрелость, где мудрость зрелости? С чем ухожу? Куда?
Он увидел край изумрудной рощи, позолоченной заходящим солнцем. Потянуло прохладой. Зенкович поежился, встал, пошел прочь.