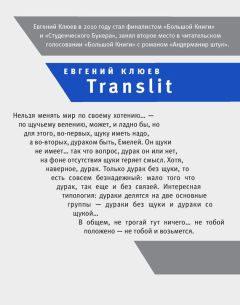А поди ж ты, по телефону его узнавать не хочет.
Разговор обрывает.
Впрочем, маленькая одна странность – запоздалой такой птичкой: у Рольфа откуда-то вдруг акцент взялся – не очень отчетливый, но акцент… на старости-то лет. Голоса байернских предков, что ли… – так это если б акцент был байернский, а то ведь другой, не байернский вовсе! Да и какие там голоса предков ни с того, ни с сего: за полторы недели акцент не появляется, не виделись же они ровно полторы недели, коктейли и все такое в пятницу, сегодня – вторник.
Гвидо давно уже было жаль Рольфа.
Всем сотрудникам давно уже было жаль Рольфа.
И всем было жаль его за одно и то же: за то, за что, вообще говоря, не жалеют, чему завидуют: за «последнюю любовь». Рольф был единственным, кто не видел, не знал, не хотел видеть и знать правду: Лаура – красивая вещица, но не очень редкая и даже (извините, конечно) не очень дорогая… она не стоит «последней любви». Из-за таких теряешь голову, когда тебе двадцать, но не умирать же медленной смертью у всех на глазах в пятьдесят с лишним, ты пожилой человек, Рольфи… смешной пожилой человек. Знаешь, что это – конкретно – значит? А конкретно это вот что значит, Рольфи: тебе уже не бывать в двух местах одновременно, это только в юности умеют, когда время по-другому кроится и можно оказаться и там, и здесь – просто из удали!
Но нет в тебе удали, Рольфи, тебя постоянно нужно прикрывать кому-то, подстраховывать, ты вечно путаешься, всего боишься, ты никуда не успеваешь – ив результате, вместо того чтобы быть и там, и здесь, нет тебя ни там, ни здесь. Тебя надо спасать, Рольфи, и надо радоваться, что Лаура целый вечер провисела на Штефане… я правда ведь радовался. Потому и сказал «слава Богу» – абсолютно вот это вот и имея в виду.
А ты, значит, разговор обрываешь – на полуслове практически. Дурак ты, Рольфи!
Дурака этого Гвидо знал наизусть: иногда даже казалось, что лучше себя самого знал. Когда пятилетнего Гвидо спрашивали, кем он хочет стать, он отвечал: «Рольфом». Странно, что с годами желание это никуда не девалось – просто проходило разные стадии: от беззастенчивого подражания Рольфу в подростковом возрасте до осторожной оглядки на то, «что сказал бы Рольф», в дальнейшем, когда судьба разводила их. Впрочем, надолго не разводила: самый длинный период был в студенчестве, когда Рольф техническим черчением занимался, а Гвидо – во исполнение тайной Рольфовой мечты, осуществить которую Рольф себе не позволил, – художеством всяким, живописью. Встретились в одной архитектурной конторе, куда независимо друг от друга подали заявления, – приняли обоих: Рольфа чертежником, Гвидо – по интерьерам. Привет, Гвидо – привет, Рольфи… я так и знал – и я так и знал!
Теперь Гвидо – владелец первого их места работы, той самой конторы, превратившейся в неприлично богатую фирму, а Рольф все чертит, на зарплате сидит. Конечно, на хорошей зарплате – Гвидо плохой не допустит… Ни тот, ни другой не пишут больше, хотя, если верить самому Рольфу (Гвидо не верит), – Рольф только и делает что пишет: в последнее время – в основном бескрайние какие-то пастели.
Которых не существует.
Именно в этом видит проблему Гвидо. А вот Рольф не видит проблемы – ни в этом, ни в чем бы то ни было вообще. В том, что всем вокруг известны подробности двойной его жизни, например, – тоже не видит. Но это так – к слову, речь о живописи.
«Я теперь пишу картины в голове, – всякий раз объясняет ему Рольф. – Мне больше ничего для этого не надо… кроме головы, разумеется!» И – смеется.
Иногда Гвидо кажется, что Рольф потешается над ним, иногда – что Рольф на грани помешательства, а иногда… что уже за гранью. Впрочем, только когда говорит о своих картинах, – в том смысле, что не тогда, когда на работе: чертежник он и теперь безупречный. Самое странное – обожает чертить, вот уж на что Гвидо бы не разменивался, обладай он таким талантом живописца, как Рольф. В прошлом, конечно, все более и более далеком… пока Рольф не начал еще «писать в голове».
– Рассказать тебе мои картины?
Гвидо ненавидит этот вопрос. И всякий раз отказывается, не желая увеличивать компанию сумасшедших: один-де рассказывает о несуществующем, а другой несуществующим восхищается… или даже не восхищается – все равно. Так что Гвидо ничего не знает про пастели Рольфа… черт, глупое умозаключение: как можно что-то знать или ничего не знать о не имеющем признаков существования!
Бескрайние, видите ли, пастели…
Рольф всегда опережал Гвидо – на один шаг, а опережал. И не то чтобы Гвидо опаздывал… Гвидо не опаздывал никогда, хорошо зная, сколько еще минут до дедлайна, просто Рольф всегда делал этот свой шаг – в сторону, и там, в стороне, был счастлив. Причем получалось почему-то так, что единственный этот шаг в сторону зачеркивал все достижения Гвидо. Например, Гвидо мечталось, что он и Рольф станут совладельцами фирмы и будут, значит, рассматривать фирму как стоящее дело… гордиться ею, черт возьми! Тем более, есть чем гордиться: начинали как наемная рабочая сила, но вот – шагнули, и…
Шагнули!.. В разных направлениях шагнули: Гвидо – навстречу фирме, Рольф – как всегда в сторону. Но ладно бы в живопись ушел, а то – в роман с вертихвосткой этой, Лаурой. Ушел – и нет как нет! Казалось бы, всего-то навсего роман с вертихвосткой, ан – не видать больше Рольфа, словно в небеса поднялся. Все, все под откос пустить – ради девчонки, которая слова путного не стоит! «Смело, – сказала собственная жена Гвидо. – Смело и красиво!» Посмотрел бы Гвидо на ее реакцию, если бы не Рольф, а сам он, Гвидо, от жены к Лауре бегал, небось, не сказала бы «Смело и красиво!» – но с Рольфа взятки и всегда гладки были: то, что другим в вину вменялось, Рольфу зачитывалось как подвиг. А уж когда и Рольфова жена, все про Лауру знавшая, сказала Гвидо «Рольф сейчас в мастерской, он работает», – Гвидо чуть дара речи не лишился: какая мастерская, у Рольфа нет никакой мастерской! «Почему нет? – улыбнулся тогда Рольф. – У меня в голове мастерская». Может, и правда – в голове?
«Так высоко я не летаю, – в сердце своем глумился над Рольфом Гвидо. – Каждый из нас что-то создает, и это что-то можно увидеть, услышать, потрогать… вот, стало быть, смотрите: это – результат моего труда. А о результатах труда Рольфа узнают из его же уст: что существуют, дескать, пастели, множество бескрайних пастелей, которые…» – и тут Гвидо останавливался в своих мыслях, опять и опять давая себе слово, что никогда не позволит Рольфу рассказывать о пастелях, которых – нет.
Однажды Рольф процитировал Уайльда – насчет того, что самые страшные преступления совершаются в мозгу человека. «Там же рождаются и самые великие произведения искусства, – добавил он потом и, разведя руками, улыбнулся: – Там им и место».
«Если бы и фирма моя только у меня в голове существовала, – опять же в сердце своем парировал Гвидо, – мне не на что было бы кормить семью. И Рольфу не на что было бы – свою… хотя Рольф, конечно, мог бы просто устроиться чертежником куда угодно: везде бы, между прочим, с руками оторвали».
Вот оно – то, что было вечной тайной Рольфа, то, из-за чего Гвидо никогда не мог уследить за тем, в каком направлении Рольф сделает свой следующий шаг: не-за-ви-си-мость. Он, Гвидо, зависел от всего: от своей фирмы, от своей семьи, от своего сына и даже своего внука, чтоб его, от своих сотрудников, а прежде всего – от того же Рольфа, в то время как Рольф – Рольф был свободен. Не имел ничего, даже картин – выставку устроить, а свободен – был! Наверное, Гвидо понимал это, когда был ребенком, – не потому ли и хотел он стать «Рольфом»: Рольфом, которому просто с самого детства ничего было не надо, а самое обидное – что и Гвидо было Рольфу не надо, лучшего друга, каким приходился ему Гвидо, – не надо! Не потому, что Гвидо по каким-то причинам не устраивал Рольфа или Рольф хотел в друзья кого-то другого: он никого не хотел в друзья, в том числе и Гвидо. Вот что было непереносимо.
Иногда Гвидо казалось, что Рольф – чудовище, поскольку точно так же, как ему не нужен был Гвидо, не нужна ему была и собственная семья: жена, дети… любимые, стоит заметить, жена и дети, тут никаких сомнений! Даже и тогда любимые, когда в жизни Рольфа появилась Лаура, тоже любимая. Почему-то Рольфу одному – одному на весь город, на всю страну, на весь мир! – словно бы полагалось больше, чем любому другому. Может быть, как раз потому и полагалось, что – не требовалось?
Гвидо сам принимал на работу Лауру: просто не смог не выбрать именно ее из – это-то он помнил точно! – почти тридцати соискателей маленькой технической должности в процветающей, значит, архитектурной фирме. Вместе с Гвидо в комиссии сидели еще четверо сотрудников: Ханнелоре, Эвелин, Петер и Хорст, причем ни у кого – ни у кого! – не было сомнений, что принимать надо именно ее, Лауру, а чем взяла – неизвестно. Женщин с таким обаянием, ни на чем стоящем (ну не была она ни красивой, ни даже хотя бы соблазнительной), Гвидо никогда не встречал. На первый же, тривиальнейший, вопрос: «Почему Вы считаете, что мы должны принять на работу именно Вас?» – она с улыбкой ответила: «Да упаси Боже! Мое пребывание здесь не налагает на Вас никаких обязанностей»… – развязный довольно ответ, если вдуматься, но тогда не вдумался почему-то никто – тогда ответ этот показался ну таким смешным… ну таким милым! Потом, между прочим, выяснилось, что она не умеет ничего – по сравнению если не с тридцатью, то с двадцатью, по крайней мере, соискателями, которые явно умели… Ее надо было учить и учить, простейшим причем вещам, – правда, слава Богу, училась Лаура быстро, а кроме того… кроме того, Гвидо уже понял все про Рольфа, понял – и остолбенел: неужели решится? В пятьдесят с лишним лет? Рольф – решился. «Смело и красиво», – сказала, стало быть, жена Гвидо. И все вокруг приняли это как само собой разумеющееся. Гвидо тоже принял: чего не сделаешь ради друга!