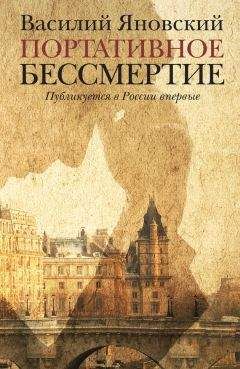Василий Яновский - Портативное бессмертие
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Василий Яновский - Портативное бессмертие. Жанр: Русская современная проза издательство неизвестно,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.
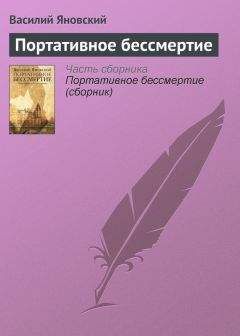
Василий Яновский - Портативное бессмертие краткое содержание
Портативное бессмертие читать онлайн бесплатно
3
Собрание было назначено в доме одного старого адвоката – рю де ла Сантэ [78] , – про которого полушутя говорили, что он занимается юридическими абортами; сам же он рекомендовался: “ M-r Solar, qui arrange toutes les affaires perdues [79] ”. Но личные дела ему не удавалось, по-видимому, устроить; часто жаловался: дороговизна, налоги! «Встану утром, – любил он повествовать. – Еще глаза не продрал, а у меня уже сто франков расходу». Свою великовозрастную дочь (седеющие усики) он еще надеялся выдать замуж (они рассматривали всякого рода интеллектуальные собеседования именно с этой точки зрения). Их облику, атмосфере всего дома придавала особую серьезную убедительность близость тюрьмы Сантэ {18} : в окна маячили ноздреватые стены.
К нашему приходу большинство уже собралось. Там был один русский барон, специалист по Талмуду, один грузинский дипломат, несколько, вероятно небогатых, голландцев, солидно объяснявшихся по-английски; два французских писателя (похуже), дамы (докторши – без прав), инженер-изобретатель, ищущий капиталиста, кинематографический режиссер (гордо утверждал: «Я граблю, но не ворую»), журналист Глеборис, румынский подданный, сотрудник американских газет, еврейский поэт Латис, специалист по литургии; критик Панис, из тех ограниченных знаменитостей, что необыкновенно почитают Искусство, – консервативный в своем обязательном модернизме (однажды в каком-то салоне он завел речь о живописи Пикассо и возмущенно встал из-за стола, не в силах больше вынести ересей своего невежественного соседа. «Помилуйте, с каким олухом вы меня усадили?» – пожаловался он хозяйке. «Но ведь это Пикассо!» – изумилась та). Явился также издатель бульварных романов. Человек, прошедший сквозь огонь и воду, войны и бунты, подобный пробке: как бы ни завертело – все-таки всплывет. Он много раз взлетал (ворочал миллионами) и столь же часто падал; судя по интересу к данному собранию, можно было догадаться: сейчас в надире [80] . Закаленный в бурях, маринованный в бедах, пухлый, круглый, почему-то в цилиндре, с удивленным взглядом дитяти, сделавшего пакость. Утверждали: если раздеть его догола и бросить в Сену, Тибр или Неву, то через полчаса он позвонит у ваших дверей – в цилиндре, фраке, белом жилете. Ему принадлежал отвратительный афоризм: брать деньги на проценты – это как держать на своих руках младенца, когда тот мочится: сначала становится тепло, а потом холодно. Пришла старая, накрашенная теософка, достойная лучшей участи: она занималась собачьим туалетом. Мыла, стригла. (Злые говорили: «делает пуделям маникюр».) Было еще двое чинных французов-инвалидов с розетками в петлицах да столько же безработных русских, все чаще и чаще поминавших московские блюда (когда они жевали – если глядеть в профиль, становилось страшно). Вся эта компания, за немногими исключениями, встречалась впервые. А те, что уже были знакомы, отнюдь не питали друг к другу симпатий. Барон имел какие-то основания не выносить общества дипломата и специалиста по литургии; бесправные докторши ненавидели Жэм-Лафранс; еврей-француз не любил еврея-румына, считая его варваром (последний же предательски норовил подчеркнуть равенство, казня его такими выражениями, как: «Мы, евреи, нас, евреев»). Дама, постоянно живущая в Лондоне, оглядев Жэм-Лафранс, сообщила, что Англия – единственная страна, где еще можно чувствовать себя в Европе: вечером мужчины в смокингах, драгоценности довоенные, а если на даме мех, то это мех, а не кошка. Теософы шпыняли баптистов, баптисты православных и католиков, социалисты мистиков, – и курили. Воздух так наполнялся дымом, что даже некурящие, желая иммунизировать легкие – задохнуться! – должны были взять папиросу. Курили беспрерывно для того, вероятно, чтобы создать какую-то видимость занятия, дела: немыслимо взрослым сидеть неподвижно часами и трепать языком. Вот и доставали ежеминутно портсигары, мяли в пальцах, чиркали спичкою (следя за пламенем), забрасывали голову и пускали, развлекаясь, дым вверх, в сторону, кольцами (беседа могла продолжаться потому, что курили; курили потому, что беседовали). Бесправная врачиха, естественно, расходилась в оценке политического момента с «правною»; она неизменно заканчивала свои доводы следующей фразою: «Во всяком случае, тут еще будет весело». И только двое безработных да инвалиды-французы, не стесняясь своих откровенно помятых костюмов, доброжелательно озирались, хихикали, предупредительно вставали, искренно радуясь культурному шуму, нарядным дамам и чаю, – не ища уже никаких личных выгод, образуя последний островок бескорыстия и отзывчивости. Наконец появился Свифтсон – один (к моему удивлению, больше никого из друзей не было). Отказался от чая, не глядя по сторонам – знал уже слушателей, – после краткого вступления («чрезвычайно интересуюсь вашим мнением деловых людей и прошу, не стесняясь, высказаться») приступил к чтению. Посредине доклада проскользнул Вторык (не то поляк, не то малоросс, он себя упорно выдавал за русского дворянина): присел у двери с напряженно-участливою физиономией. С минуту внимательно слушал, стремясь приблизительно нащупать тему (посетив на своем веку тысячи лекций, он в этом отношении был мастак); ухватив суть, он начал оглядывать присутствующих, сосредоточенно целясь, в первую очередь отмечая, кто из окружающих влиятелен, может пригодиться, чтобы во время перерыва успеть поговорить, поздороваться; с любопытством задерживаясь на незнакомых, но встречая их ответный внимательный взгляд, озабоченно отворачивался (уж не жид ли?); потом он перешел к женщинам, отметил всех, еще могущих нравиться, подолгу останавливаясь, возвращаясь к наиболее желанным, но, встретив ответный настойчивый взгляд, трусливо жмурился (уж не шлюха ли?); третьим его безотчетным поползновением было выяснить процентное отношение евреев; потом задремал на стуле с томно опущенными веками, в привычной, жульнической позе интеллектуального послушания, дожидаясь конца. Почти все мужчины носили очки и по свету в стеклах делились на две неравные половины: первая, меньшая, – молодые, преимущественно близорукие, с вогнутыми чечевицами; вторая – старики, дальнозоркие, с выпуклыми – по-разному отражавшие лучи. Если смотреть сверху (например, стоя), то поражало чрезвычайно комичное выражение множества лысин: несмотря на обилие, каждая имела свой собственный лик, эмоциональный тон, идею. Были жирные, властные, большие, лоснящиеся, были мелкие, желтые, сморщенные, были совсем жалкие, дряблые, неприкаянные, на костлявых, лопоухих черепах. Они шевелились, склонялись, точно какие-то постыдные злаки, в разные стороны, никли долу, слабые, беспомощные. Один старичок доверчиво пристроил свою паршивенькую, похожую на зад рахитичного младенца, к косяку, у самой дверной щели – вот-вот щелкнет орешек! – и ангельски не то заснул, не то умер. В общем, доклад Свифтсона понравился по своему духу, однако все требовали слова, желая немедленно указать на коренные его ошибки, улучшить, изменить, дополнить. Журналист Глеборис считал это предприятие даже социально вредным, распыляющим силы сознательных бойцов в нашу грозную историческую эпоху. «Революция началась когда-то в Англии! – заявил он. – Перебросилась во Францию, триста лет спустя пришла в Россию. В Англии революцию делали аристократы, во Франции буржуа, в России рабочие (классы, которые приняли на себя тяжесть переворота, таинственным образом зафиксировали себя в тех странах, сохранились, быть может, навеки). Мы видим, что революция идет с запада на восток и сверху вниз. Таким образом можно предсказать, что следующим этапом революции будет Китай (либо Индия), а сделают ее – крестьяне. Вот куда надо обратить все внимание, ибо это последний акт данной пьесы. Последний, самый многочисленный класс – резервы, недра земли – выйдет на арену, начнет себя реализовывать. Дальше – неизвестное, ничто или переселение на Марс. А что если резервы окажутся тупыми, жадными муравьями, пресными, экономными, беспощадными пчелками? Я зову направить туда вашу волю, и они будут тем, чем мы захотим. Долой мармелад!» Хозяин дома (юридические аборты) торжественно попросил Свифтсона дать ему пожать руку.
«В наше время нужен миф, – заявил он. – Надо быть максималистом, чтобы кое-как существовать». Панис рассказывал, почему-то возмущенно, о средневековых каменщиках. «А ля гер, ком а ля гер!» [81] – спохватилась лиловая Жэм-Лафранс. «Конформизм», «плюрализм», «персонализм» били картечью друг в друга отдельные группы. Всё перемешалось, вспыхнул перекрестный спор, где доводы, словно мячики, попадали в первую подвернувшуюся голову, отпрыгивали, опять кого-то задевали и возвращались к бросившему их (он в это время едва успевал отражать другие мячи). Противники уже не успевали развивать свои соображения, делая только заявки, выкрикивая отдельные имена, заглавия, символы: Бергсон, Фрейд, Толстой, экзистенциальная философия… План Мана {19} , американский опыт, пятилетка, демократия, возрождение… Над Панисом порхало: Пруст, Джойс, Кафка. Безработные объединились с инвалидами-старичками на гастрономических темах, умудряясь только называть соуса и коньяки, парируя мысль собеседника в самом зародыше: Робер, Перигё [82] , мадера, пикант, итальян, «Мартель», «Хеннесси», бисквит… Фашистский блок, Китай, Абиссиния, Майорка, полюс, Анни Безант {20} , христианство, карма, чехи. «Во всяком случае, тут еще будет весело!» – прорывалось беспрерывно. И время от времени, всех покрывая, мадам Жэм-Лафранс, повергнутая в прах, истерзанная, затоптанная, подавала пар откуда-то снизу: облизывая зияющий рот вампира, испускала неистовый клич: “ A la guerre, comme а la guerre! ” В эту минуту я, верный, очутился рядом со Свифтсоном. Кивнув мне, он поднялся и очень тихо сказал: «Господа! (Был сразу услышан.) Так нельзя спорить. Вы сами знаете: к чему это… Я старался всегда мыслить конкретно, хотя вы меня и обвиняете в утопичности. Все присутствующие здесь, оказывается, желают земле блага. Одинаково ли мы понимаем доброе и злое, желанное и вредное?.. Давайте выясним это. Тогда всё сразу станет по местам. Я предлагаю следующее: пусть каждый сообщит нам поступок, лучший в его жизни, самый ценный, достойный сохранения, благодарности. Таким образом расчищается кругозор, рушатся призрачные стены, устанавливается необходимая, благодатная погода». Эта мысль неожиданно понравилась: согласились наперебой, однако выговаривая себе право ничего не говорить, ссылаясь на особые обстоятельства (и во всяком случае, не желая начинать). Но постепенно раскачались, втянулись, и некоторых приходилось даже сдерживать: они вспоминали по две и три героические выходки. (Один журналист, Глеборис, отказался под тем предлогом, что это – опиум для народа.) Обнаружилось вдруг, что все добрые, чуткие, и главное – отлично разбираются в самом существенном. Хозяин (юридические аборты) вспомнил, как он спас от высылки (а может, от смерти) семью польского рабочего. Мадам Жэм-Лафранс извлекла «со дна» почти ребенка – устроила ее швеей. Кто-то дал деньги, большую сумму, незнакомому, на улице, в беде, поверил и не ошибся: вернул с трогательным письмом. Панис отправил на свои скудные средства талантливого художника в санаторию. Барон даже прыгнул в речку и вытащил тонувшего школьника. Дама, постоянно живущая в Англии, помогла бедной девушке прилично выйти замуж. Наконец, Вторык, водивший в свое время знакомство с декадентами, выспренно признался, что ему, как православному, конечно, случалось откликаться на голос совести, но гордится он следующим поступком: на даче, еще в России, он раз, уже в постели, читал любимые стихи о Прекрасной Даме; вдруг влетела гостья, бабочка, которой жить-то всего несколько часов; радостно, будто освобожденная душа, она устремилась к свече – начала кружить; он попробовал ее отогнать, но не смог: боялся смять крылья; тогда он потушил огонь. Я снова приблизился к Свифтсону, бессознательно желая ему передать мое отвращение, предостеречь, внушить. Он меня встретил уверенной – отдаляющей – улыбкою; потом сурово спросил: «Вы что-нибудь скажете?..» – «Ничего нет, – ответил я угрюмо. – За тридцать лет ничего не могу найти бесспорно достойного внимания». Жэм-Лафранс поспешила ввернуть: «А еще доктор». Я чуть было не брякнул: A la guerre, comme а la guerre!.. – но вовремя сдержался (что-то окаменело под скулами Свифтсона); пристыженно осведомился: «Удивительно, что больше никого из друзей нет…» Свифтсон как-то странно всполошился: «Ведь сегодня Жан Дут уезжает. Не знаете? Вы? Все его провожают». – «Ах, вот оно что!» – «Это на Лионском? Да, да, как же!» – и, не слушая, бросился, разгребая локтями кресла и тела, вон из комнаты. Долго не мог сыскать такси. Настиг, уговорил (до вокзала рукою подать). И вот уже мы приближаемся к некоему центру: свет, шум, трепетание, воздух – поглощающий, всасывающий (как вокруг исполинской махины). Эта особая будоражащая атмосфера – в чем-то сходная – штабов, бирж, телеграфа, госпиталя и вокзала. Увлеченный, я беспомощно шнырял меж звякающими тележками, властными служителями, двугорбыми носильщиками, помолодевшими, стянутыми, обновленными путешественниками (похожими на королей в свите провожающих); судорожно пялил глаза на циферблаты, стрелки, дощечки, литеры, числа. Этот запах сухопутного порта, материковый злой ветер в лицо, рокот континентального прибоя, царственные окрики, свистки и фонари: разноликое, разноцветное небо одиноко бдящих, мигающих в ночи сигнальных огней. И голос рока, зовущий через трубу: «Пассажиры на Лион, Марсель, Тулон… пассажиры на Лион, Марсель, Тулон, Ниццу…» – стегает уже душу. (О, голос рока, вокзальный голос невозвратимого, ущерба и разлуки). Мечусь – мышонок – по бесконечному ангару со стеклянною крышей: справляюсь, ищу нужный путь, билетик. От волнения, захваченный водоворотом, слепну, теряю голову, время, пячусь (окурки, скорлупа, сквозные ветры; дремлют, почесываясь, нищие); осведомляюсь, молю – готовый упасть, зарыдать, умереть от непомерной грусти. Я всегда презирал обывателей, трепещущих у ворот лазарета, млеющих при виде нарыва или слыша стон; а между тем во мне стынет кровь от одного взгляда на вокзальные (грязные) часы: я когда-нибудь свалюсь у этих афиш, у толстых книг с расписанием. Вырываюсь на путь. Подано два состава (с несколькоминутною разницей); первый стоит уже, подобранный, строгий, готовый к борьбе; хлопают последние двери, – забраны сходни, отрезана пуповина. Поезд еще здесь зрительно: великая ложь, – его сердце уже отсутствует; в окнах скворцовые группы избранников, но провожающие ничего больше не могут сказать этим теням, чьи души в пути. Унизительно лавирую: не смотрю, а ощупываю, нюхаю пространство, вперед, по обе стороны. Вот-вот провороню, и все-таки знаю: нет, увижу (еще раз)… и страшусь (вероятно – в последний). Спущенное окно 2-го класса, и через узкий коридорчик на светлом чехле дивана – голова, синеющие, стянутые, слегка изогнутые овально пряди. «Лоренса!» – хочу крикнуть, но она еще до того поднимает глаза, настороженно смотрит, мимо, к чему-то прислушиваясь (или – вспоминая). «Лоренса! – вырывается наконец. – Вот медальон. Я принес его!» – издалека протягиваю руку, а колеса мигнули, и окна закупоривают, все заслоняя, тяжелые, квадратные плечи: то Жан Дут сверяет часы. Проталкиваюсь, спешу, а поезд набирает уже скорость, и всё, что мне видно от Лоренсы, – это прозрачная, могильная нежность и усталость: в груди. Вот осиротевшие люди повернулись спиною, бредут назад, вздыхая, беседуя, сморкаясь облегченно, – как с похорон; а я упрямо (так борются с дождем) несусь вперед, дальше, на самый край, где кончается стеклянный, дьявольский навес: там черная ночь, пожравшая не один эшелон, переполненный воскресающими иногда Лазарями. Энигматически вперив глаза, я жду: вот, скользя, он обернулся ко мне своими дорожными, малиновыми огнями, стегнул по глазам и плавно растаял. Эти задние махровые фонари прободили мне сердце еще в детстве: курьерский промчался, не замедляя, а кругом таинственная ночь (тогда вселенная подступала к воротам, матовые стекла неведомой, как мир, парикмахерской прятали нелюдские тени); мать держала меня позабытою рукой – чужая, – о чем-то думала, вытянувшись как стрела, смотрела вслед. Тогда я узнал главное. И если вихревой смерч озаренных окон, музыка пожираемых земель упоительно славили грядущую борьбу и возможные встречи, то в мигании задних – кротко-мудрых, одиноких, малиновых свеч – таились уже все мыслимые разлуки (далекая – с Лоренсою; близкая – смерть матери). Она умерла русскою зимою, ушла в снег и звезды. Я кощунственно рыдал, когда ее увозили на операцию, – за что был наказан. Через пять дней скончалась. Я не мог уже плакать: загодя похоронил, сгорел… и слонялся посторонним свидетелем, одиннадцатилетним актером, исполняющим обязанность. Утром в мертвецкой меня пропустили вперед. Я запечатлел предательский, чинный, ложно-сыновний поцелуй на ледяном, разглаженном лбу (его нельзя счесть за материнский). Она была недопустимо равнодушна и загадочно чужда в своем последнем тридцатилетнем покое (как – по-иному – перед выездом, в темном платье, оголенная, для других надушенная: я всегда бессознательно, веще, норовил запачкать, разодрать, захворать, разрыдаться, чтобы разоблачилась, вернулась, осталась со мною навеки). Склоняясь к незнакомому лбу, я покосился в сторону – на домашних, – проверяя впечатление: единственный сын, я сейчас некий центр, творю историю, биографию, участвую в сцене, которая должна остаться памятною для присутствующих, и стараюсь хорошо исполнить порученную мне роль. Удалось: все стихли, потом взвинченно заголосили, осмысливая мое предполагаемое горе. А странно, забавно: мог бы выкинуть любой фортель (вот бы переполошились!)… и оттого еще трогательнее кладя сыновние поклоны, лицемеря (я ли тебя не любил!), упиваясь едкою, трудною прелестью зла, впервые ощутив его острый, сложный смак и гордое величие падшего ангела. Январские похороны. Снег и комья земли (такие взрыхлял старик на улице Будущего), – всем ведомо. Когда уже хотели засыпать, отец (тоже одинокий) вдруг шагнул вперед, неуверенно взобрался на осыпающийся, глинисто-гороховый вал, осторожно выпростовывая блестящие калоши, подался (к моему удивлению) на самый край – и глянул вниз. Потом, пятясь, вернулся; и послышалось: туры-туры-туры-туры (десяток рук на таком морозе не без радости взялись за лопаты). Много лет спустя, в Парижском кафе, за «цинком», беседуя со случайным знакомым, со дна души внезапно поднялась, всплыла запечатанная бутылка с недостающей грамотою. Отец тогда подумал, – открылось мне: «Сейчас все будет кончено, безвозвратно…» – и, стремясь выщипать у вечности еще одно перо, склонился (лишний раз) к могиле. О, как я теперь постигал эту ребячливую, титаническую попытку – бежал назад по стихийно выступившим проводам и кочкам, сам склонился через его плечо. Вернулись под вечер, в неурочный час подали самовар. Я пил сладкий чай, за много дней впервые (не смерть делает пищу отвратною, а главным образом мертвое тело), смакуя его божественный аромат, теплоту и свежий, нарядный крендель (припасенный сердобольною, дальновидною соседкою – для сирот); зная, что всё это дурно теперь, полагается страдать, всхлипывать, испытывая оттого двойную сладость благодаря открывающейся мне прелести лжи. А отец, напряженно-хмурый (тоже лицемерно, несмотря на всю скорбь), последний придвинул стакан и соболезнующе (удивляясь собственной гадости), мотая головою, промолвил: «Все по-старому! Проклятое тело требует своего!» – и осклабился, неприятно. А мы все, отраженно, подталкивая, ликующе заулыбались, радуясь его словно заискивающей усмешке и тому, что проклятое тело требует своего (как хитро устроено), и подлому сходству наших чувств, понемногу исцеляясь душою: благодаря крову, уюту, дремотному отдохновению после продолжительных слез на морозе, среди чужих свидетелей и религиозных, беспомощно трогательных попыток воскресения. В нашей передней с незапамятных времен висела репродукция картины забытого художника, изобразившего кудрявого ребенка среди хищных зверей: иллюстрация к пророчеству Исайи. Ее прибили посередине стены на уровне глаз – лучший способ сделать вещь незаметною. Память об этой группе и о вечере похорон неисповедимым образом сплелась у меня. Оказалось, что я промочил ноги: порвалась калоша. Настроенный предыдущим, безликим шепотом – «теперь все изменилось, по-другому, сироты», – я пробрался в переднюю, изучил подошву и решил: надо экономить, сам ее починю. (К моему разочарованию и возмущению, не позволили: все та же сердобольная соседка.) Вот тогда, орудуя усеянною шипами, пахучей резиною «Треугольника» [83] , мне вдруг предстало это видение, и я долго, изумленно слушал, нюхал, пил открывшееся мне впервые (и все-таки искони знакомое). От беспомощности ли (собственной и взрослых-сильных), горьких слез или от ярко расцветшего сознания безусловной, личной порочности, лживости (родившего жажду очиститься), мне начало казаться: я, этот мальчик, кудрявый, светлый, с круглым, нежным лицом, молчаливо-внимательный, бесчувственно-райский, – был им, могу снова стать. Пройду в это тихое поле (стукнуться лбом об стекло, надеть белый хитон, взять знакомую оливковую ветвь, положить руку на могучую, кроткую голову льва), а кругом терпеливое собралось стадо (как на школьных фотографиях: воспитатель, директор и тут же сторож Афанасий): в профиль рога, волк слегка скучный рядом с непонимающим даже происходящего евангельским барашком (так придурковато-ангельски глядела козочка на улице Будущего). Тогда я узнал: это повторится. Но с тех пор, всякий раз, когда я мысленно приближался к своему райскому видению, обязательно всплывал кладбищенский вечер (одиночество, разлука, порочность). Там где-то, во время бега, мелькнули, кажется, лица Дингваля и Чая. Я задержался, чтобы не встретиться со всеми ими. «У нее такие же волосы», – догадался я наконец, сравнивая Лоренсу и мать. (Многое вдруг осветилось: преданность, вера, знание до мелочей, извечная нежность и родное искони очертание губ.) Будто нож гильотины, дернулась большая стрелка часов. Вокзал беспрерывно менялся: в его сложной, космической ткани ощутимо пульсировали, перерождались клетки. Подали новые составы – другие планеты с неизученною орбитою кружения. Исчезли одни таблицы, цифры, знаки, появились новые. Прошествовали марсияне или луниане, сопровождаемые Хароном-носильщиком; иные сироты махали платками, сморкались, леденели от дыхания рока; бесплотно и горько мигали, пересыпаясь (ползли, как раки, из мешка), насыщенные красно-желто-зелено-сигнальные, геометрические огоньки – плыли в ночном море; вой, шипение, торопливый бег к неминуемому: по сору, бумажкам, окуркам. Те, что встретили, спешат радостные, очумелые, – как из родильного дома Бюта с женою. Не дождалась – высокая, худая, в трауре, идет объясняться с дежурным: что он может!.. Старик понуро расхаживает, медлит еще, сверяет часы, изучает расписание: поезд уже прибыл. Он стар, в тягость многим, ждет сына, внука… Я тушил нежность к ним. Довольно: сам несчастен, больше не могу! Обречен! «Но когда же это началось?» – тщился я уразуметь, ибо понимал: хотя странное бегство Жана, потеря Лоренсы чреваты многими последствиями, но и до того жизни не было. Назад, глубже в прошлое, все так же изуродованно, неудачно. А вместе с тем я знал когда-то радость. Я ее находил в другом конце: детство. Да, там все другое, но как же произошел этот разрыв, почему образовалась трещина, нельзя ли исправить… Постепенно ли расходились эти две неравные части, медленно отравлялись, претворялись… Или сразу, как отрывается льдина, как графическое представление многих функций, где кривая, только что обретавшаяся в первом участке – с положительными знаками, – вдруг проваливается и выскакивает в третьем: с отрицательными. Не ведаю. Только память: голенький, с ловко намотанной рубашкой-чалмой на голове я беззаботно прыгал солнечным полднем по берегу каменистой речки, не смущаясь своим открытым миру стыдом: что-то райское в этом утре, в моем состоянии, – счастье, которое не может умалиться. Да, там была вся полнота. Тогда же она кончилась, как река, затерянная в песчаных степях, – ушла под землю, провалилась. Вот приблизительное место катастрофы. В этом моем раннем ликовании уже гнило зерно сомнения: прыгая по лугу, я встретил группу чиновников, поглядевших на мой неприкрытый срам хмуро, порицающе. Часто потом я спрашивал себя: как можно, без стыда, столь непринужденно, о, святой день! Но все же, если я ничего действительно не знал , то как я понял их удивление… Тогда это уже начиналось (и быстро завершилось), корни уводили туда; что именно – трудно сказать: но рая не стало. Гимназическая фуражка, первая папироса и прочее, усики. Нам в спину бил арктический ветер, навстречу нам шел 19-й годок. В рваной шинели, с цигаркою в зубах, он бежал перелеском, гогоча (взрыв его смеха оборачивался пулеметным рокотом, оскал хищных зубов – зарницами пожарищ). На Юге, все что было лучшего, все что было худшего в империи, медленно отступало к морю; в черной, адмиральской шинели, дважды преданный и дважды казненный, Колчак шагал из-за Урала к подворотне иркутской тюрьмы. Мы уходили за Каспий. Там бои идут вокруг колодцев. Кто владеет источником, тот господствует над пространством в несколько сот квадратных верст. Под тропическим небом мы брали приступом срубы. «Вода отравлена!» (Враг успевал побросать туда трупы.) Караваны чумных верблюдов, с мертвыми на спине, как фантомы, проносились мимо: глухо, колокольно звенела человечья, берцовая кость. Ночью светила жестокая луна, и по ее воле Желтая Дама протягивала к нам потное жало. «Хина! Хина!» – раскрывал я влюбленно объятия. Помню: верблюд упал и забился в агонии. Я спрыгнул и от живого еще, трепыхающегося, предусмотрительно отрезал кус мяса. Сорокаградусная малярия ежедневно трясла мой остов: меня привязывали к седлу. Долгие ночи; погребально звякали колокольцы. «Хина, Хина!» – молил я нагую, желтую даму, протягивая свои потные уста. Крадучись, брел встречный караван с призраками. «Чума, чума!» – вопили наши туркмены, прикладываясь к ружьям: в серебристом, адском свете падал верблюд, судорожно перебирал ногами, укоризненно вздыхая, стихал. Там, далеко, за горизонтом, – матери вскрикивали спросонок. Но это все уже – мимо.
Похожие книги на "Портативное бессмертие", Василий Яновский
Василий Яновский читать все книги автора по порядку
Василий Яновский - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.