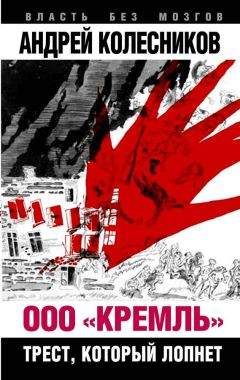– Я знаю, где он сидит! – шипел он, скаля зубы из жёлтого металла. – Он в Ведено прячется, сукин сын. Говорю, дайте деньги, я его сам приведу…
– И что?
– Ничего! Мы сами справимся! Так сказали…
Когда в голове Рамзана авантюрные планы отсутствовали, он любил сидеть по центру кабинета на стуле и, покачивая ногой, речитативом излагать содержание известных песен. Он переиначивал их на свой лад, но смысл при этом сохранялся:
– Полковник Васин приехал на фронт и сказал им: идите все к чёртовой матери…
Гуляя по коридору, он мог подойти к заместителю начальника и, приобняв, осведомиться:
– Как дела, Виктор Андреевич? Может, нужно кого-нибудь замочить?
…Или Лев Васильевич, например. Выдающийся криминолог, который мог заткнуть за пояс любого доктора наук. Он сам бы мог стать доктором, он докторскую написал, но защищать её не стал по каким-то принципиальным, ведомым только ему соображениям. Когда я работал здесь, Льву Васильевичу был семьдесят один, сейчас – семьдесят семь, получается. Роскошная седая борода, грудь колесом – он так любил ходить по кабинетам. Тосковал по временам гласности и перестройки, клеймил нынешний режим. С ним интересно было поспорить, с Львом Васильевичем. По понедельникам мы обменивались прессой. Я отдавал ему умеренный, взвешенный «Русский Ньюсвик», а он вручал мне истеричную «Новую газету». В ходе кабинетных пьянок Лев Васильевич любил предаваться воспоминаниям:
– Весело раньше пили, не то что сейчас! Сидим за столом, окно открыто. Мы выпьем бутылку, и – в окно. Вторую выпьем – в окно. Граждане на улице кричат, возмущаются! Пытаются в институт проникнуть, разобраться, а их милиционер постовой не пускает… Помню, ещё, у нас калмык один работал. Доктор наук, м-да… Напился однажды и упал лицом в унитаз. В туалет захожу, а он стоит на коленях, голова в унитазе, по плечи, так сказать. Я был потрясён, друзья мои. Как так могло получиться? У него же лицо широкое, как блин. Точнее, как большая пицца…
Не уступал Льву Васильевичу Анатолий Михайлович, тоже дедок. Все его называли Михалыч. И многим молодым невдомёк было, что Михалыч ещё во времена Щёлокова курировал всё, что связано с наукой в МВД СССР.
В арсенале у Михалыча было много историй. Например, он любил вспоминать о гонораре, полученном за сценарий учебного фильма для милиционеров. Фильма о том, как охранять общественный порядок на массовых мероприятиях. Это был 1981-й, что ли, год, следующий год после Олимпиады.
– Я с Митькой Мышкиным писал. – вспоминал Михалыч. – Полгода где-то. Когда работу приняли, нам от МВД каждому по шесть тысяч рублей дали. Я их прогулял, конечно. Вместе с Митькой. У-у-у! – Негромко говорящий Михалыч любил внезапно взреветь. – А Галька моя жену Митькину встретила. «Ну что, Галь, – та ей говорит, – как деньги потратили? Мы вот с Дмитрием «Жигули» купили». А Галька про деньги и слыхом не слыхивала. Ну вот что-то не успел я ей сообщить… Что тут началось! Как она давай орать! Ах ты развратник! Куда деньги дел?! А мне и сказать-то нечего. Блею что-то, как козёл. Не дали мне, мол, пока. А она орёт, не верит. Чуть до развода не дошло! Всё думаю, и вдруг… Звонок из Авторского общества. Анатолий Михалыч! Возьмите шесть тысяч авторских! Это вторая половина, оказывается, гонорара была… Ну, я сразу Мышкину позвонил: не вздумай, мол, жене своей про вторую половину сказать, дурак! Я деньги Гальке отдал, она извинилась даже. «Жигуль» купили. Митькины деньги, ясен хер, пропили…
Дедки были золотым запасом нашего центра. Но выгнали давно уже всех дедков. А эти?
…Отворяются иногда двери, выходят люди. Половину из них я не знаю. Лица их смурны. Весело здесь, думаю я. Просто цирк, не иначе.
– Так как насчёт того, чтобы в мой отдел? А, Андрей Павлович?
– Нужно подумать, Алексей.
Лицо у Алексея краснеет похлеще, чем у Ивана Юрьевича. Раньше он был худеньким и относился ко мне с почтением, спрашивал совета. И я эти советы давал. С позиции доброжелательного имперца. Ведь Алексей был в некотором роде беженцем.
Сейчас же, повторюсь, Алексей Дедушкин щекаст. Он щекаст, и живот у него появился, теперь он начальник и, видимо, привык, что к «Алексей» люди добавляют отчество. Особенно подчинённые люди. Не исключено, что он и меня уже видит своим подчинённым. Не иначе. А я почему-то не вижу.
– Подумайте, Андрей Павлович!
– Безусловно…
Не дожидаясь лифта, я бегу по каменным ступеням вниз. Бегу навстречу своей неизвестности. Подумать? О чём? О том, как куковать здесь за фиксированную зарплату, хорошую, но небольшую? Нет, господа. Анархические ветры в моей голове. И простая, временами казавшаяся недоступной мысль поселилась в ней. Делай что должно. И будь что будет.
Сама судьба дала мне шанс освободиться от Системы. И этот шанс я уже не упущу.
Скачу по этим ступеням, крепким и системным, до меня доходит вдруг: Семья и Система – близнецы-братья. Вернее, сёстры. Все братья – сёстры. Об этом ещё Гребенщиков и Майк Науменко заявили в 1979 году, записав одноимённый альбом.
Система и Семья, обе построены на лжи и условности. Ровно и хорошо живёт в Семье только Глава. Он должен являть собой вождя и тирана. Чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно, чтобы двигать обе эти глыбы, нужно быть тираном. Чтобы одно мнение было правильным – твоё. Остальные приспосабливаются. Попытки выстроить модель иную, основанную на демократии и свободе слова, обречены на провал. Тогда сам Глава превращается в приспособленца, погрязает в самокопании, движения уже нет. Поэтому только подавление. Вот он – залог успеха в обеих субстанциях, залог успешной семьи, гарантия движения и жизнеспособности Системы. А мне не нравится подавлять.
И игры эти дипломатические мне тоже наскучили. Вертеться ужом между начальниками, лавировать между родителями и жёнами, когда каждый несёт свою правду, а моей правды во всём этом будто нет, – надоело! Вся жизнь – театр, но игра в этом театре уже не для меня. Играть одни и те же роли – приспособленца и подкаблучника – я уже не могу.
Поэтому – к чёрту.
Миша позвонил сегодня, и я этому рад.
– Почему мне не сообщили? – возмущается он, и я чувствую, что моего друга одолевают самые светлые чувства.
Мой друг возмущён тем фактом, что его не позвали в Голицино.
И всё же он скорее весел, чем печален.
– Палыч там ходит один, с ним никто не разговаривает! – оживляет Михаил картинку в своём воображении, и я чуть не падаю от смеха со стула. – Он там, а я здесь! Мне всего три часа до тебя ехать! Почему не сообщили? Что за саботаж?
Я трубку от уха оторвать не могу. Будто в первый раз осознаю, что вот она, дружба, настоящая дружба, проверенная временем, она куда важнее этой сраной любви.
– Палыч! Приезжай ко мне в Калугу! Тебя будет ждать ящик «Вранаца»!
Я люблю его. В хорошем смысле этого слова.
Начиная со славных омских времён Миша меня боготворит. Понятное дело, тут не без стёба, ведь я не Джон Леннон, чтобы передо мной преклоняться. И всё-таки Миша боготворит.
Первый наш КВН был заснят на видео. Миша его посмотрел, опередив меня. Переполняемый эмоциями, мой друг признался, что место всей нашей банды в зрительном зале, и только моё на сцене.
– Палыч – великий! Луи де Фюнес отдыхает! – неистовствовал он.
Я, кстати, придерживался прямо противоположного мнения.
Когда же прошло лет шесть и я поставил ему кассету со своим первым эфиром, он и вовсе пал на колени.
– Палыч! Ты бог! – воскликнул он. – Ты – бог радио!
…И вот я еду к нему. К моему дорогому другу в Калугу.
Экспресс несёт меня по рельсам, мимо мелькает лес, искрящийся ярко-жёлтой листвой. Бабье лето, в этом году оно великолепно. Я – пока ещё не нищий, но всё же безработный, ловлю себя на мысли, что, несмотря на все мои передряги, настоящая жизнь мне в кайф. Свобода. «Ты свободен! – говорил мне Егор. – Как это круто – быть одному!»
Напротив сидит тётечка. Скромно одета, платьишко ситцевое, лет за пятьдесят ей, наверное, читает газету.
Я смотрю в окно, но краем глаза улавливаю, что чтение газеты для тётушки – не главное, скучно ей читать газету и хочется поговорить.
– Джуна умерла, – сообщает она якобы в пустоту.
Молчу. Я не расположен сейчас к разговору с посторонними людьми. Но тётенька не унимается. Она начинает с интересом разглядывать меня.
Прямо как таксист, думается мне. Эти тоже любят бросать слова в пространство, в надежде, что они попадут в уши пассажира и тот поддержит разговор.
– Жалко Джуну, – вздыхает тётечка.
– Она вроде давно умерла, – замечаю я.
– Да? А я узнала только сейчас. Газета, наверное, старая.
Она кладёт газету на сиденье.
– Меня Антониной Петровной зовут.
Всё, думаю, попал.
– Меня, – неохотно представляюсь, – Андреем.
– Очень приятно.
– Обоюдно.
Антонина Петровна обращает свой взгляд к окну, смотрит на мелькающие сосны.
– Красиво. Как у нас, в Котовске.