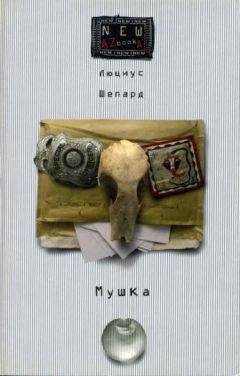А через неделю Анна с горя все рассказала мужу, тот, пьяный, зарубил Семена топором, а сам, очухавшись, повесился в сарае. Аннушка тут совсем помешалась рассудком. Потому только, наверное, руки на себя и не наложила.
Ладно, теперь пусть Федор Леонидович расскажет про «колхозных», – оглянулся Виктор Александрович, – Он их лучше знает.
Аграрий Федор Леонидович отпил воды из стакана и, согласно кивая, заговорил нескладно и просто.
– С Сашки началось все, в тот же год, кажется. Пришел с армии, ударенный будто – говорили, в какой-то «точке» побыл. Светка его в район замуж выскочила. Ну, он недельку погулял и к ней. Пришел пьяный, с мужем побрехался, выхватил нож и в бок его. Муж в больнице, Сашку в тюрьму. Ничего, думали, посидит и вернется. А потом телеграмма – погиб в тюрьме… Следом Витька Прохоров, ты, Слава, знал его, – обратился он к Виктору Александровичу, – в армии, на севере где-то, застрелился в карауле. А с чего, так и не поняли. Ребята все наши, жалко было сильно. Случаев хватало… В одной драке с «районными» Егорка, «Весенний» кличка была, получил заточкой в живот – в свалке так и не узнали от кого. Дня три в больнице провалялся и отошел… Мать, помню, на похоронах убивалась страшно. А следующим летом…
Пить начали крепко… Один в реку на тракторе угодил, и сам утонул и машину утопил. Другой, Женька Кирсанов, в Петров день было, от спирта ошалевший на быка с топором пошел, тот ему ни одного ребра целым не оставил. Помню, доходил когда, страшно мучился. «Что же это ребята?» – спрашивал. В то же лето Сашка Клюев, во ржи уснув, под косилку угодил. А Васька Смирнов, что его переехал – спился потом совсем. Что ни месяц – похороны. То случай, глупый какой-то, то пришибет кого, а кто сам. И все нелепо, не по людски. Отцы на войне за победу под пулями, а тут…
Следом годы сплошных неурожаев, безденежье. Кто порезвее, рванули из Небосвода в город, как ошпаренные. Большинство так и не вернулись. Стало хозяйство пропадать. И мы – пили и пропадали… Очнешься чуть, поишачишь до зарплаты – и в загул. Всюду – то же. Все по бумаге есть, все работает, да ничего нет. Давно слухи ходили, что зерно за границей покупаем… А через несколько лет кто-то где-то там устроил какие-то реформы. Вслед за людьми, рухнуло и все дело. Что работало – перестало работать. Кто что мог – начал растаскивать. Не воровать – дико растаскивать… Народ одурел. А когда еще заговорили, что все что раньше было – было «не так», все кто как жил – неправильно, власть преступна, народ в стойлах, а строй наш советский – ошибка истории – все перемешалось, кинулись по разные стороны, куда кто мог, или просто спивались. В колхозе тогда спроси: «В какой стране живешь?» – можно и в морду получить, – Федор Леонидович угрюмо замолчал, обводя всех грустными глазами. – Прошло в каком-то затмении несколько лет. Уже и своих резать стали и не признавали, кажется, ни бога, ни черта… – он замолчал и посмотрел на Евгения Павловича. – Ну а про Ивана сам рассказывай.
– Когда светконец совсем пришел, я в школе своей тоже запил страшно – ребят совсем не стало, а что были, разбежалась. И тогда я… все мы увидели в селе Ивана. Когда это было? – обратился он к гостям.
– Третьего, утром, – подсказала Марина Сергеевна.
– Да, третьего. Иду я, грязный, рваный, рано утром, после вчерашнего, к Корнееву опохмелиться. Погода к тому дню задурила вместе с нами – дождь несколько дней шел проливной, улицы – что ручьи. А тут свежесть такая с утра, ясный теплый день, голубое небо, благоухает все. Смотрю – стоит на обочине кусок тряпья. Думаю, очередной спившийся бродяга. Да странный какой-то. Сразу было в нем что-то не то. Оборачивается ко мне: заросший, волоса грязно-русые гривой, борода с проседью – охапкой сена, одет будто в какую шкуру, как в шубу. Сам босой, в руках палка во весь рост, сверху поперек деревяшка привязана – крестиком. И вдруг чистым таким голосом: «Здравствуйте, Евгений Павлович. Замечательное утро». Я иду, голова раскалывается, никого не надо. Так бы мимо и прошел, если б он меня по имени-отчеству не назвал. Ребятишки так только называли. Остановился, с виду – бродяга и старик, только держится прямо и твердо. И глаза… голубые-голубые, молодые, аж горят на заросшем лице.
– Здорово, – мямлю в ответ. А он мне:
– Куда ж в такую рань спешите?
Хотел было сказать, да не знаю как. Соврать не получается. Стою я, значит, и молчу. А он:
– Зря вы торопитесь… Утро-то какое! Хорошо у вас здесь!
Огляделся я по сторонам, не понимаю, о чем говорит. Улица наша как улица, битый асфальт и грязь. Облупленные дома и косые черные столбы.
– Вы, – спрашиваю, – не местный?
– Почему? – удивился он.
– Ну, – говорю, – для нас здесь все привычно и скучно.
– Как же? – удивленно отвечает, – вам скучно, если вы тут живете? Вы же здесь живете, здесь ваш дом, люди!
Я растерялся, вскинул голову, а небо на загляденье – свежее и голубое.
– Не знаю, – говорю. – Привыкли, наверное.
– А здесь что? – сказал он, оглядываясь, и будто не зная, куда попал.
– Как что? Все как всегда… – отвечаю.
– Странно, – говорит, глядя внимательно. И будто как полегчало мне. Чепуху несу и все это бред, но чувствую – голова гудеть перестала, расслабление внутри появилось, и хорошо вроде как.
– Может быть, вы просто не замечаете отличия?
– Чего? – не понимаю никак я.
– Как дни меняются.
Ну, думаю, приехали! Что значит с волосатыми бродягами с похмелья по утрам разговоривать.
– Ладно, – говорю, – пора мне…
Смотрит он на меня прямо-прямо, улыбается вроде как. И знаете, проснулось во мне что-то такое, будто очнулось.
– Не спешите только, и берегите дочку, – вдруг говорит.
Я поразился: откуда про Машу знает? И чудно мне и хорошо одновременно. А он стоит, смотрит на меня без отрыва, и как улыбается под бородой.
Добрался домой, к Маше зашел, смотрел, как она спит. Помню, поразился – какое ангельское лицо у нее. Ей семнадцать было. Старик не выходил у меня из головы весь день, да так, что капли в рот я не взял. А следующим утром пошел в школу…
– Погоди, Евгений Павлович, дай другим рассказать, – вставил фермер Федор Леонидович.
– Так это мы неделю говорить будем, – откликнулся врач Сергей Григорьевич.
– Давайте я только про себя скажу. Очень уж дивно, – все согласно закивали Федору Леонидовичу. – В то утро я был в еще худшем состоянии, чем наш дорогой директор. Колхоз развалился, поля в бурьяне… Всю ночь я гулял с какими-то девками, но пришел под утро домой. Что-то уронил в прихожей, разбудил детей. Нина стала кричать, схватилась за скалку, выгнала меня. Дохлебав остатки, я преспокойно улегся под забором. Очнулся от света яркого солнца в глаза. Вижу – лежу, где и лег, а рядом, у дороги сидит какой-то волосатый старик в лохмотьях и пирамидку из камушков на земле складывает. Оборванный до жути. Ну, думаю, наш колхозный брат. Только чую, не несет от него ни самогоном, ни прокисшим гнильем. Тут старик мне: «Утро доброе, Федор Леонидович!», – старик знай себе, сидит на обочине, с камушками играет – то собирает их, то разбрасывает:
– А что у вас урожая-то нет который год?
Голова болит страшно, а он, собака, еще и… На зло что ли?
– А черт его знает! – и лежу себе дальше, вставать не получается. А он мне снова:
– А чего у вас дети на селе не родятся?
Что же ты, сволочь, думаю, заладил! И вроде, не местный. Он камушки на камушки все кладет, да так стройно, что и не падают они, уж выше локтя стопка.
– А что-то уезжают все из села? – спрашивает волосатый, а по мне мурашки бегают. Сейчас встану и отдубасю старика за такие вопросики. А сам смотрю на камушки, что друг на друге непонятно как лежат высотой уже в колено:
– Так урожая нет, и дети не родятся – вот и уезжают…
Старик берет свою длинную палку, к верху крестом, и как ударит по башенке – камни во все стороны так и разлетелись. Поворачивается он ко мне и говорит:
– Зачем тебе урожай, если ты тут валяешься?
Лежу у забора, журюсь на солнце, смотрю только – день хороший такой, травка зеленая, сочная. Кусты и деревья сильные и красивые.
– Что же вы себя забросили? – бросил старик и пошел дальше.
Лежу, встать не могу, и крикнуть хочу – не получается. Только рукой машу вяло ему что-то. И глупая мысль такая – как же хорошо, что руки у меня есть. И стало мне тогда, знаете, горько так… горько. Не выходил старик из головы ни на миг. Пошел я тогда в поле, недалеко от дома, стою среди бурьяна и думаю, зачем мне урожай, зачем люди в Небосводе? Жить-то, известно, всем хочется.
– За день старик обошел все село, – добавил банкир Соловьев. – Я запомнил эту встречу на всю жизнь. И то отвращение, когда он, весь в лохмотьях, зашел в банк, и то свое онемение, когда увидел его глаза, и ту тупость мысли, когда он спросил, зачем я столько времени провожу с деньгами и зачем мне денег все больше и больше, когда есть достаток. Я, конечно, так и не ответил ему, за дверь выставил. И с тех пор каждый день, лезут эти вопросы в голову, тупые жестокие вопросы, лезут.