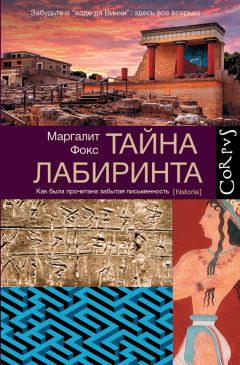Минуту я сижу, прислушиваясь к нарастающему гулу крови в руках. Затем, не приняв никакого решения, выхожу наружу. Закуриваю. Глубоко вбираю в легкие дым. И внезапно, отбросив сигарету, бегу туда, где она только что была.
Я сижу возле окна с выходом на пустынный, уползающий в темноту переулок с черным шпилем католической церкви в конце и думаю о двух вещах сразу – я думаю о черепахе с белым панцирем, ползущей по краю моря ослепительно-ясным утром, и о том, что пора уже встать и пойти, наконец, отсюда – хотя бы домой или в какой-нибудь поздний клуб, но слишком хорошо видны очертания всего, что будет, и поэтому я сижу здесь, пялюсь в ночь и не знаю, куда себя деть, как и с каким настроением.
Потом я вспоминаю нечто такое, от чего моя мысль начинает лихорадочно рыться в памяти, дабы отыскать, выхватить это нечто, давно позабытое, реанимировать в себе щемящее ожидание радости, в будущем появлении которой когда-то не было никаких сомнений… а что это?.. звонкое утро в деревне с петушиными криками и запахом сухого дерева от стен, чьи-то обещания, светлые окна чужой жизни, а может, трава, брызги, саднящие царапины на коленях от несущего, словно ветер, бега… или предновогоднее одиночество, за которым всегда такая прорва надежды… что-то чересчур далекое, неуловимое, как невидимый порыв воздуха… и мне тревожно, и лень отыскивать в себе это, и я говорю – пустое, это пройдет, не знаю…
Но белая черепаха… Мне лучше думать о ней, о большой ленивой черепахе с белым панцирем, которая ползет между дюнами и линией прибоя легкомысленным солнечным утром, ползет, сама не зная куда, не ведая, кто она и зачем отбрасывает песок, в тяжелом усилии передвигая свое большое тело; путь ее бесконечен, как бриз. Но мне трудно думать даже о черепахе, потому что это невозможно – постоянно видеть только ее усталый шаг, и взгляд мой рано или поздно оторвется от белого панциря и примет в себя ясный и теплый, пьяный и легкий окружающий мир, которого нет.
Опять возникает Назар. У него хитрый, можно сказать, загадочный вид. Он рывком выставляет на стойку коробку, из которой высовываются горла бутылок. От тяжелого звяканья стекла все как-то мобилизуются. Щекочущее недоумение оборачивается радостью, когда Назар торжественно оповещает застрявших в его кабаке старожилов, что вот уж час с лишним как у нашего Кизюка день рождения.
Среди веселого гомона кто-то замечает, что дни рождения принято отмечать в светлое время суток, а если раньше, то плохая примета. «Нормально!» – поспешно рявкает Кизюк и идет обниматься с Назаром. Дешевенькое вино разбегается по столам. Неловкие мужские сантименты оканчиваются разбитой бутылкой и замогильными стенаниями Марленыча, принужденного убирать следы «нерусского какого-то поведения»… Потом шум-гам стихает и каждый остается наедине со своим одиночеством. Разговоры звучат все глуше и реже, и сигареты докуриваются до самого фильтра, обжигая усы и пальцы. В не заметной никому тишине слышно даже, как ночной мотылек бьется с внешней стороны стекла. Откуда-то издали доносится лошадиное ржание, тающее в жалобном визге автомобильной сигнализации.
В эту минуту мир незаметно изменяет выражение на лице. Светлеет мысль. Теряется сонная тяжесть. Тепло и радушество снисходят на наши головы.
– Вот я часто задаюсь вопросом, – тихо говорит Скваронский, упираясь взглядом в стекла собственных очков, – подлежат ли эмоции человека физической оценке? Ну в самом деле, если каждый электрон, каждый квант, каждая дебильная частица сопряжены с целым, умудряясь влиять на жизнь звезд, галактик, на время, пространство и даже на Вселенную, то получается, что все – от самого малого до самого большого – находится хоть и в бесконечно сложном, но все-таки логически обоснованном взаимодействии. Нет ничего лишнего. Все в деле. Все. Абстрактные величины, совершенно неосязаемые, мы сумели не только вычислить, разложить на схемы, но и вплести в общую картину мироздания – да так, что их можно едва ли не пощупать! Свет, цвет, время, кварки, гены. Черт возьми, до чего все понятно – и бездушно! Если мыльный пузырь отдает радугой – так это всего-навсего интерференция света: волны разных цветов отражаются от двух поверхностей пузыря и гасят друг друга, выбиваясь из белого. А звезды? Сколько стихов, поэзии! Например, красные. Красиво? Но мы уже знаем, что это холодные звезды, что они израсходовали все виды своего топлива и теперь неумолимо сжимаются в черную дыру под действием единственной оставшейся в них силы – гравитации. Трудно себе представить, но из черной дыры уже ничто не может выбраться наружу, она обращена только внутрь себя – и все… Или – материя. Лес, море, человек, бабочки. Все, что мы способны воспринимать. Почему все это живет, дышит, действует – и не распадается? Очень просто, оказывается. Достаточно признать, что это – молекулы, состоящие из нескольких атомов, которые держатся вместе за счет электронов с орбитами больше одного ядра, а также протонов, нейтронов, кварков и бог знает еще какой дряни. От их-то всестороннего взаимодействия и возникает устойчивость материи. И получается, что все вместе мы – одно единое целое. И люди, и леса, и моря, и воздух, и звери – это всего-навсего оболочка, притянутая массой нашей планеты и гарантирующая ее устойчивость. Боже, какая скука! – В дверях появляется жена Скваронского – тихое, опустошенное существо с остатками молодости в глазах. Кутаясь в накинутую на острые плечи шаль, она быстро проходит к нему и садится рядом, не произнеся ни слова. Скваронский словно не замечает ее появления. – Выходит, что все это живет и умирает только лишь для того, чтобы не превратиться в черную дыру?.. И все? И больше ничего?.. Абсолютное, безбрежное бездушие… Жизнь человека – как жизнь камня, растения, материи, бумажки… Но тогда зачем мы, маленькие частицы этой оболочки, чувствуем, страдаем, мыслим? Ведь не должно быть ничего случайного, ничего лишнего, ведь все имеет свое место, а значит – все уравновешено. И значит, любое наше проявление – мысль, печаль, движение, вздох – как атом, как кварк, как световой импульс, – уравновешивают что-то в непостижимой конструкции мира…
Скваронского никто не слышит, кроме меня и Удуева, который зачарованно спрашивает:
– Что ж, если я, к примеру, вдруг пукнул, это что-то такое там означает, что ли?
– Возможно, – вздыхает Скваронский. – Детерминизм, дружок. Физики убили философию. Превратили ее в маниловщину. Но зато они научились измерять, казалось бы, неизмеримые вещи. Свет, например. Время. Научились находить объяснение всему и обращать все в практическую плоскость. Даже квантовая механика, утверждающая принцип неопределенности, и та подарила нам телевизор. Но раз все взаимодействует в большом, то все взаимодействует и в малом. И наши чувства, страдания, мысли, вера не есть ли такие же субстанции, как время, свет, пространство, волны? Не являются ли они неким эфирным веществом, которое можно физически понять, измерить и дать ему ранжир, место в структуре мироздания? И хотя бы так наполнить смыслом и ценностью наши жизни… Может, если мне плохо, то кому-то обязательно хорошо? Если я теряю, то кто-то приобретает? А если тот, другой, ребенок или просто хороший человек?.. Это, конечно, мораль, но вдруг еще и физика? И тогда даже самая пустая, самая завалящая жизнь оказывается не напрасной. Ведь своим несчастьем она, возможно, служит чему-то нужному, и мой провал может стать топливом для какого-то иного взлета… Если бы знать… – Скваронский умолкает. Он улыбается, а из-под очков ползут слезы. – Как пусто и страшно в этом холодном, огромном и безразличном мире, – почти шепчет он.
Я отворачиваюсь, мне неприятно на него смотреть.
Жена кладет руку ему на плечо, а другой пытается вытереть лицо, он отмахивается от нее, но она с покорной настойчивостью тянет его домой. Наконец он соглашается и тяжело выползает из-за стола.
Я спрашиваю вслед:
– А как же случайность, господин ученый? С ней-то что делать? Или вы полностью ее исключаете?
– Случайность – это гордыня, – оборачивается Скваронский. – Она появляется тогда, когда человек не может что-либо объяснить. Случайность означает незнание, и только.
– Вы банальный атеист. И очень упрямый, – усмехаюсь я. – А смерть, кстати, вы тоже воспринимаете в таком физико-атеистическом ракурсе?
– Не знаю, друг мой, – разводит руками Скваронский, пошатываясь. – Скорее, в физическом. Но как она выглядит, я пока знаю. – Его лицо становится холодным. – На каждый плюс есть минус. Каждой частице соответствует античастица. Каждому человеку – античеловек. Все эти анти находятся где-то там, в антимирах, нам они недоступны. Но если однажды вы повстречаете кого-то, похожего на себя, держитесь от него подальше. Не исключено, что если вы прикоснетесь к нему, то оба исчезнете. – Очки Скваронского безумно сверкают ярким отсветом барной стойки. – Значит, вас больше нет.