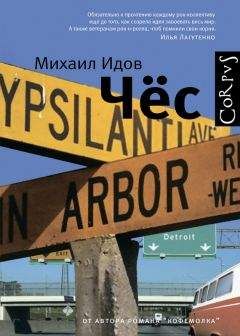Внутри Оскар произвел моментальную рекогносцировку: в активе имелись несколько одиноких незанятых мест (одно рядом с Яшей) и – удача! – три подряд в самом последнем, шестиместном ряду. Он перешел на трусцу (“Эй!” – жалобно окликнул его Яша) и плюхнулся не на среднее из трех мест, как подсказывал инстинкт, а на крайнее правое. Более того, он наклонился еще правее и навалился на соседа – престарелого гобоя, – снова будто бы страшно увлекшись все тем же мусорным баком за окном и походя освободив аж два с половиной сиденья для следующего кандидата.
Девушка, разумеется, клюнула. Она выбрала место, которое казалось ей “средним” – иначе говоря, место рядом с Оскаром. Как только она устроилась, Оскар потерял интерес к миру за окном и вернул свой бесформенный торс в стандартное вертикальное положение, мигом заполнив узкую полоску пространства между собой и девушкой. Вайскопф сел четырьмя рядами дальше, рядом с Яшей. Автобус сотрясся, на секунду столкнув Оскара и его новую соседку еще ближе – коснулись буферные зоны тепла их щек, – и снялся с места.
– Привет, – сказала девушка по-английски. “X” в ее hi звучало как хруст лыжни, но тон был прямо из Малибу. В ответ Оскар запунцовел и квакнул.
– Простите, – поправился он. – Привет.
– Привет-привет. – Она засмеялась. – Меня зовут Ольга. Для друзей Оля. Я работаю в… на… ТВ-6.
– Здорово. Ты репортер?
– Сегодня я транзистор, – ответила Оля, забирая сбежавшую прядь под берет. – То есть транслятор.
– Переводчик?
– Да. И, видишь, не очень хороший.
– Ничего подобного, у тебя прекрасно получается, – возразил Оскар чуть быстрее и громче, чем намеревался. Краем глаза он видел, как впереди вертит головой Гейб Мессер.
– Ох, спасибо, – сказала Оля. – Я так волновуюсь.
Скорость, с которой советская разруха, окружающая аэропорты во всех странах мира, уступила городу как таковому, застала Лунквиста врасплох: шоссе без особых фанфар взяло и превратилось в бульвар восемнадцатого века. Длинные приплюснутые здания, пролетающие с обоих бортов, кишели подбалконной барочной живностью; почти все, как ни странно, были горчично-желтого цвета, хотя точный оттенок горчицы варьировался от дижонской до американской. Время от времени за ржавыми воротами или в глубинах подворотен мелькали оборотные стороны тех же зданий, почерневшие и шелудивые.
Автобус подпрыгнул на ухабе. Под ногами у Оскара, в багажном отсеке, что-то упало и покатилось. Бурт Вайскопф со второй попытки поднялся на ноги, сделал четыре неуверенных шага в хвост автобуса и навис, с трудом сохраняя равновесие, над Олей.
– Пожалуйста, скажите ему, – попросил он, указывая на водителя, – чтобы вел поспокойнее.
Оля гаркнула что-то, не вставая. На слух Лунквиста вся русская речь звучала как слова cash transaction. Водитель пожал затянутыми в свитер плечами и с чувством ударил по тормозам, послав Вайскопфа кубарем восвояси.
– А ты, – спросила Оля, поворачиваясь обратно к Оскару, – на что… во что играешь?
– В альт, – ответил Оскар. – Я играю в альт.
– Тебе не жалко, что Новый год… как это… наступает, когда ты на сцене?
– Я, поверишь ли, успею сбежать со сцены, – сообщил Оскар. – Мы играем Прощальную симфонию, знаешь такую? Там в конце такая штука, музыканты уходят по одному. Сначала духовые, потом контрабасы, потом виолончели, потом я. В самом конце остаются только две скрипки.
– Хорошо, – кивнула Оля. – Может, я тебя нахожу и мы идем гулять. Когда двенадцать, я хочу быть на реке. Река близко.
– Я тоже хочу быть на реке, – сказал Оскар.
* * *
Поспешная репетиция струнных на бархатных креслах гостиничного конференц-зала пролетела в пересвеченном мареве. Оскар, должно быть, играл приемлемо, так как не помнил никаких слов в свой адрес. Затем он пошел гулять вокруг отеля, видел канал и мостик, заблудился, замерз, вернувшись, узнал, что пропустил торжественный ланч в честь гостей, и провел остаток дня en suite, млея на неразобранной кровати рядом с дорожной сумкой Гейба, из которой высовывалась, как язык, длинная красная майка.
Когда около одиннадцати вечера автобус с сент-польской симфонией подъехал к Дворцовой площади, местный оркестр триумфально добивал “Увертюру 1812 года”. Площадь, огромная и слегка выпуклая, вращалась грампластинкой вокруг центральной колонны с ангелом. Низ колонны проглотили полукруглые трибуны, на которых расположился оркестр; на экране за спинами музыкантов разбивалось на звезды и собиралось воедино снова и снова число 2000. Каждые несколько секунд экран выбеляло бродячим лучом прожектора. Оскар отследил его к небольшому вертолету, набекрень пришпиленному к лиловым небесам над дворцом. Концерт был явно более рассчитан на телеаудиторию, чем на живых зрителей. Полдюжины телевизионных фургонов, в их числе ТВ-6, разбили лагерь прямо перед сценой, и верткий маленький кран то и дело вздымался из толпы, как рука машущего в такт музыке робота, чтобы ухватить общий план площади.
Оскар сощурился на обогревательные лампы над сценой. Их оказалось очень немного. Ледяной ветер без труда пробирался под фрак, на раз пробивая термобелье, в которое были затянуты конечности Оскара под белой сорочкой и черными брюками. Жилет цвета слоновой кости еле сдерживал его свободолюбивый живот; плиссировка расширялась, как жабры, с каждым вдохом. Белый галстук-бабочка давил на кадык, и Оскар то и дело нервно сглатывал. Он так привык потеть в своем фраке на концертах, что холод ему пока что даже нравился. Хоть раз всем этим шелково-шерстяным доспехам нашлось какое-то реальное применение, кроме укрощения плоти, – они стояли между ним и русской зимой.
Музыканты начали расходиться по местам. Лунквист едва успел занять свою позицию в первом ряду альтов, когда его обуяло желание поискать в толпе Олю, и он снова поднялся на ноги. Обогревательная лампа гудела и потрескивала над головой, грея исключительно макушку.
Он нашел ее там, куда посмотрел первым делом, – рядом с фургоном ТВ-6. Она болтала с гигантским и явно приставучим пингвином, который то и дело трогал ее ластой за плечо. Оскар прикусил губу – и прикусил ее еще сильнее, когда пингвин развернулся и прошлепал на сцену с остальными вторыми скрипками.
– Парень, – протрубил Мессер, проходя мимо Лунквиста к своей позиции учительского любимчика в метре слева от дирижера, – ты такое пропустил. Надо было сбежать в город со мной и Сучкером после ланча. Телочки здесь… ладно, потом расскажу. Ну что, дадим жару?
Растерянный Оскар бросил скорбный взгляд на Олю и обнаружил, что та пробралась к сцене и машет ему из первого ряда. Он неуверенно кивнул; она просияла в ответ и захлопала, держа ладони в сантиметре от подбородка, как очарованный ребенок. Шестью позициями левее Мессер указал на нее смычком и нарисовал в воздухе лихую загогулину. Она захлопала снова, возможно даже сильнее. Оскар посмотрел на Гейба. Гейб посмотрел на Оскара. Дирижер, восьмидесятилетний латыш, чья лысина приобрела бройлерный лоск под обогревателем, встал за пульт между ними, и тут уже пришлось хлопать всей площади.
Потом они взялись за работу.
Пара самых энергичных пассажей в presto заставили Лунквиста сконцентрироваться на музыке, но, как только началось адажио, он снова уставился на Олю. Она поймала его взгляд и на сей раз не отпустила. Она смотрела на него, на него, черт возьми, не на Мессера и не на кого другого. Тысячелетие намечалось хорошее. Где-то на следующих страницах таилась в засаде пометка si parte – его сигнал к уходу.
Яша Слуцкер оказался в первой группе, достигшей финиша. Он засунул свой кларнет под локоть, как мультипликационный термометр, и утанцевал на жеребячьих ногах. Еще двадцать три неспешных такта проплыли мимо, и с ними иссякал 1999 год. Экран показывал 11:48 с пульсирующим двоеточием, периодически отвлекаясь на прямые эфиры с Красной площади и Таймс-сквер. Отвалились первая валторна и второй гобой. Бай-бай, контрабасы. А вот и виолончели убрели травоядным стадом.
Альты уходили предпоследними, что давало Лунквисту, по его расчетам, пятидесятисекундную фору против Мессера. Он скомкал свой последний фа-диез, рывком встал со стула и зашагал прочь во главе альт-отряда, чуть не опрокинув по дороге арфу и две лампы. В темном зеркале площади он видел, как Оля шагает в том же направлении, пробираясь через толпу, чтобы встретить его у подножия лестницы.
Оскар прогромыхал по пружинящим алюминиевым ступенькам без особого уважения к приглушенному финалу за спиной и успел заметить, что она утерла варежкой слезинку.
– Ого, – сказал Оскар. – Это тебя музыка так?..
– Нет-нет, – ответила Оля. – Это холодовка. Готов? Без пяти полночь.
Оскар покосился на сцену, где пленный Гейб, сидя напротив первой скрипки Берты Стайверс, доделывал дело. Нетерпение слышалось в каждой его ноте: последние фразы звучали не столько элегично, сколько воинственно. Он встречал двадцать первый век тройной дозой злости, зависти и недоеба. Стайверс наклонилась к Мессеру в отчаянной попытке вернуть его внимание к музыке. Вежливая ярость на ее лице читалась за десяток метров.