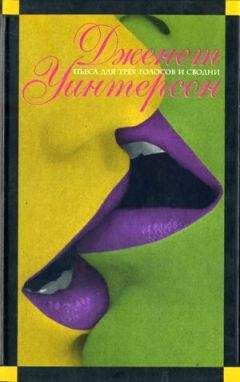Желтое, серое, коричнево-белесое, какого-то неопределенного лысого цвета одиночество. Скупое одиночество. И та же скупость в словах, также медленно застывающих в воздухе, как редкие в небе тучи, кажется, скрипучие, полные песка вместо влаги.
Еще была одна остановка в пути. Даже показалось, что остановили по той же причине, что и я желал остановки. По неожиданно откуда-то сбоку прихлынувшей более твердой почве с растительностью, по некому подобию дороги с машинными колеями, на неком подобии телеги ехал человек в странном малахае и весь закутанный в хламиду. И, главное, пел, гнусаво, однообразно, но пел, и голос его отчетливо долетал до нас. То ли воздух тут был иной, то ли голос, приспособленный к пустыне, передавался из поколения в поколение.
Однако мой порыв остался незамеченным: поющий даже не обратил на нас внимания, как и шофер, не удостоивший его взглядом и снова копающийся в моторе.
А голос все удалялся. Уже почти исчез, превратился в пятнышко, а потом, как в щелку, запал между степью и небом возница с лошадью и заунывной, тягучей, как клей, песней. Может в этом – спасение: запасть в щелку мира, отлежаться, чтобы вернуться обновленным существом?
Уже было темно, меня укачало, я задремал. Потом в полусне свисал, слезал с машины, куда-то меня вело, мимо вагончика, в палатку, где уже спали, и свалился, в миг заснул.
* * *
Пробудился рано. В шатре, который ночью показался палаткой, на войлочной кошме спал шофер, еще двое незнакомых, а в углу знакомо похрапывал Витёк. Скудный свет утра, даже еще сумерек, но предрассветных, грязно-серых, сочился через щелку застегнутого на ночь входа и делал предметы и лица спящих убогими, захваченными летаргией безмолвия.
Выбрался из шатра, увидел вагончик. Его предстояло нашей машине везти на буксире до буровых. В тени его стояли тщательно укутанные бидоны с водой. Глыба нашего автомобиля, казалось, сжалась за ночь. Рядом с ней стояла автомашина, приданная группе поисковиков, с которой работает Витёк. У ног моих лежала забытая алюминиевая миска, которую начали протирать песком, да так и не закончили. А дальше был – песок, барханный, настоящий, на сколько хватает глаз. Он окружал меня, оглушал безмолвием, нет, оглушал неслышным, но обволакивающим пением, как бы стоящим за тишиной. Песок, тот же, что и в песочных часах, и в детской формочке, наперсник вечности, молчаливый зритель или взметенный, бушующий, нехотя удушающий – исполнитель чужой прихоти, главным образом, жгучего или ледяного ветра. Песок – субстанция, в которую, как в океан, впадают все страсти, все пульсы мира. Песок – безмолвный отражатель мировой жизни, голосов, бормотания, пения, смеха, стонов, – вот он, лежал на моей ладони и на капоте машины, доступный всем, униженный до чистки посуды и не теряющий от этого величия. Песок, царственно-пространный. Песок, с ухмылкой всё наперед знающего, отдающий себя в руки любому – от нищего до повелителя. Бог забвения, – песок.
И не морской, влажный, домашний, уютный. Нет. Как будто вся сухая сила мира, которую сгребали тысячелетиями оттуда, где перемолотый временем, дряхлеет, скрипит, но еще молодцевато держится скелет мира в прочной надежде обновления, – как будто вся сухая сила мира лежала – явно в насмешку – у моих ног.
И вдалеке, казалось мне, мерцало море, ложная его влага: сухой оттиск, подобие моря. Нет, явно в насмешку над всей мечтой моей жизни – морем, – мечта эта вставала живым воплощением пустоты.
Я узнавал свой жест – ловить руками пустоту.
Просыпались.
Шофер поисковиков разводил огонь в ямке. Нам предстояло разминуться. Витёк с группой – в одну сторону, я с шофером и механиком, который нас тут ждал, к Аралу. На завтрак были традиционные блюда, готовящиеся мужчинами, – макароны с мясом, чай, на этот раз зеленый, без сахара, бодрящий.
Оказывается, где-то недалеко была вода. Обе машины зарычали. Покатился урчащий металл, скорее какой-то диковинный рог, втягивающий в себя звуки, оставшиеся в пустом пространстве. Когда машины исчезли за бугром, стало оглушающее тихо. На миг я лишь теперь почувствовал себя напрочь отрезанным от дальней узкой полоски жизни, совсем один на один с вездесущей изнанкой всяческой суеты – песком.
Мы сидели поодаль от вагончика и шатра, на песке. Молчали.
– Не мучает тебя это безмолвие?
– Слух у тебя еще не привык, – сказал Витёк, – не обострился. Тут ночью, бывает, такое вытворяется. Эоловые эффекты. Душу дерёт.
Значит, не померещилось мне рано утром неслышное пение. Видно, уже затихало.
– Так вот, – сказал Витёк, – я был тогда с ребятами и с Юркой на проспекте, когда ты с Ниной шел нам навстречу.
Значит, постанывание было только слабым эхом того, что здесь вытворяется по ночам.
– И вообще я все знал про тебя, – сказал Витёк. А у Лены с Юркой ничего не вышло. Ты же знаешь этого дурака. Так, покрутился с ней, сколько там дней, п-в кусты. Уехал и не попрощался. Ты что, не знал?
– Знал. Еще вначале знал. Да и она, по-моему, знала.
Умолчал о том, что она плакала, знала, что предает и себя и меня. Ничего не восстановишь, материя такая – разрыва, несчастья. Из нее путного ничего не слепишь.
– Ты что, ни разу там не был со времени окончания? Мама же твоя недалеко живет. Не проведал?
– Проведал маму с бабкой. И всех видел. И Лену и Нину.
Витёк помялся, ощущая явно какую-то неловкость. Спросил:
– Кто же эта прекрасная дама, имя которой ты не назвал ночью? Намекнул на то, что я знаю ее.
Ну, конечно же, он, хитрая бестия, тогда ночью всё слышал, только притворялся спящим.
– Светлана.
– Кто-кто?
– Ну, Света.
– Наша Светка? – Витёк онемел. У него глаза на лоб полезли. Он слушал, затаив дыхание, мой рассказ о нашей неожиданной встрече в Крыму, о внезапно вспыхнувшей страсти, о двух днях на высотах, и, главное о двух купелях – Ай-Андри и Ай-Анастаси.
Мы долго молчали. Потом он спросил:
– И её ты тоже бросил?
– Да нет же. Я ее по-настоящему люблю, – наконец-то я выговорил это вслух. В этих словах я впервые был верен себе, как и забытые источники там, в горах, верны себе. Каждый по-своему.
Урчала машина. Я пожал ему руку. Забрался в кузов. И долго еще Витек махал мне рукой, пока его, и вагончик, и шатер не вытеснил песок.
* * *
Потом на долгое время тишину вытеснил грохот и лязг буровых вышек, подрагивающих в жарком полдне, суетящиеся бурильщики в касках, меняющие коронки, трубы.
А к ночи резкий обрыв грохота у вышки, рядом с которой я обосновался в палатке. Другие отдаленные буровые работали круглосуточно, но звуки не долетали, поглощаемые пустыней.
Нахлынувшая тишина накрывала с головой.
Далеко за полночь меня внезапно вырвало из сна.
Песок пел.
Переливчато, то усиливаясь, то совсем пропадая. Тонким, сладко притягивающим плачем сирен.
Песок изнывал в тоске. И я, родившийся вдали от него, у обильных вод и древ, как будто всю жизнь нес в себе эту иссушающую тоску пустыни, созданной для осознания души, единственной и сокровенной. Была в этом обнаженность, приобщение к корням мира, хотя нигде и никогда не чувствуешь себя таким заброшенным и оторванным от пуповины земных дел, как здесь, среди песков.
Песок похохатывал, плакал, пел, отражал все звуки прошедшей жизни. Это была пустота, которая выставляла себя за прошедшую жизнь, как бы длящуюся рядом с настоящей, дышащую и вторично совершающуюся. В этот миг вся та жизнь равнялась пустоте, затеям ветреным. Но ветер рвался из себя – поддержать, во что бы то ни стало поддержать иллюзию, что прошлое существует. Вот оно – оперилось, ощерилось звуками. Можешь услышать всю полноту прошедшего, весь смех радостных минут, всю боль и плач ушедшей жизни, как бы никуда не ушедшей, встающей ночными звуками в невыносимой полноте. Не можешь до конца поверить, что это иллюзия, хотя знаешь, что – иллюзия, и это мучительно изводит.
Сильна жажда освободиться от мучений, пройти испытание, не залепив себе уши воском, как спутники Одиссея, но и не привязав себя к мачте, как Одиссей, – ступить на новый путь познания жизни, на котором пустыня – великий учитель.
Свежие вороха снега и скрипучая сухость песка.
Ледяная бездна вечной зимы кратера снежного колодца и душная сухая воронка пустыни – вот две чаши весов, на которых взвешивается моя жизнь. Зима, существование в одиночку и вдвоем, жажда слияния с природой, деревьями, звёздами, людьми, а через них – со всей отходящей и заново рвущейся в душу, свежо рождающейся жизнью.
И песок – отъединение, безмолвие. Усмешка, всезнающая, как вечность – это иной, уверенно зовущий путь жизни – в сосредоточенность, в уход в себя, просветленность в горечи и потерях.
Но самое пугающее, что я понял: мне не дано дотянуться ни до одной высоты – ни снега, ни песка. Я – средний. И мне, как муравью, мешает дорасти до высоты и сложности человека отмеренная мне сила и размах дыхания.
* * *
Мне оставалось дописать несколько страниц отчета до того, как отправиться назад, в экспедицию, но тут внезапно позвонили по связи и потребовали, чтобы я немедленно выезжал, благо уходила машина с образцами пород. Сам я по связи не говорил, но говоривший добавил, что меня ждет сюрприз, а какой, ему не сообщили.