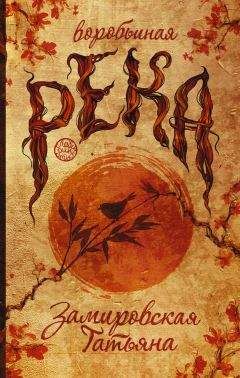– Нет, я им не верю, – ответил другой из нас.
Получается, что Ляле, нашей волшебнице луж и фее отъездов, мы верили всю жизнь – даже в той жизни, где ее уже не было.
И в этом смысле у нее все получилось: и память, и бессмертие, и, возможно, все то, на что мы так и не отважились и поэтому не можем это ни назвать, ни вспомнить.
Четыре письма четырем адресатам
Письмо первое
Ты просил, чтобы я никогда не писала тебе ничего, особенно огромных литературных писем. Так и сказал, «огромных литературных», будто я специалист по огромным литературным письмам и наверняка зарабатываю ими на жизнь, обеспечивая наивных влюбленных бешеной, как мчащий по горящей степи табун, перепиской за соответственно безумные деньги, но, к сожалению, мой язык запечатан судорогой, челюсть сведена неразрешимым спазмом, а все слова, которые остались в моем распоряжении, можно легко сосчитать по пальцам одной искалеченной руки: метеорит, электричество, погоня. Но, к сожалению, в погоне за этим невесомым электричеством немоты я растеряла преступно немного информации, будто недостаточно старалась – например, я помню твой адрес; его легко вспомнить, потому что дом как будто соседний с моим, а квартира как будто половина моей. Что поделать, мне больше нечего писать на конвертах.
Поскольку слов у меня не осталось, во всяком случае, два из трех доступных я уже израсходовала в этом нелепом, кашном, квашном предуведомлении (о, как бы я хотела без него обойтись! как бы я хотела обойтись вообще без всего!), то я бы просто хотела, чтобы это был набор фотографий. Так было бы проще для всех. Я бы хотела оставить ровно десять, потому что когда фотографий больше десяти, из них почему-то всегда хочется отобрать десять, а мне невыносимо думать о том, какие уместнее выкинуть; а когда фотографий меньше десяти, тебе кажется, что случился обман и у тебя что-то украли. К тому же, если фотографий девять, десятая всегда снится. Мне, например, постоянно снится, что я обнаруживаю дома старые фотопленки и мчусь их проявлять, надеясь на появление той самой десятой фотографии – и она всегда где-то там обнаруживается, и она всегда самая прекрасная: лето, дерево, скакалка, челюсти мои распахнуты, а язык пляшет на плече – на этих фотографиях я сказочный лабрадор-ретривер цыплячьего цвета, а у всех моих мимолетных хозяев – лица моих любимых, родственников и друзей из прошлого, и каждому из них я приношу то палку, то мяч, то мертвую птичку, чтобы оживили.
Я отвлеклась, прости, но речь шла о длинных литературных письмах – ха-ха, ну как, у меня получается? Про птичку, по-моему, нормально.
В общем, это должно быть десять фотографий, ни больше, ни меньше.
Первая. Апрель, нам с тобой нужно перейти железнодорожные пути, чтобы попасть в Дом, но нас встречает потоп, пустырь и эстакада, и вместо того, чтобы вдвоем отважно ринуться в грязную волну небытия, мы инсценируем какой-то памятник – ты берешь меня на руки и бредешь со мной по колено в грязи, чтобы я не запачкалась. Потом ставишь меня на землю и обнимаешь – я пачкаюсь.
Вторая. Январь, мы стоим на крыше и смотрим на трамваи. Очень холодно, и я хочу узнать, насколько – для этого я плюю вниз. Плевок замерзает на уровне третьего этажа. Минус семнадцать, говорю я. Щелк.
Третья. Июль, мы возвращаемся с театрального форума и хотим сократить путь, чтобы пробраться через заброшенный завод. Находим дырку в заборе, я пролезаю, а ты застреваешь. Я трогаю руками твой живот, глажу тебя по плечам и говорю: прости, я вообще не знала, что ты такой широкий, я сейчас вызову МЧС. Светит луна, тепло, красивая такая ночь.
Четвертая. Август. Мы должны встретиться на концерте Coldplay в огромной толпе. У тебя сел телефон, у меня на тот момент никакого телефона еще не было. Я разбегаюсь и погружаюсь в толпу, будто в море, закрыв глаза и считая до трех – на счет «три» я вбегу в тебя, это понятно.
Пятая. Июнь. Чтобы отомстить мне за историю с Б., ты решил продать в электричке все мои книги, но, к сожалению, я как раз ехала в одной из этих электричек и купила у тебя все свои книги за бесценок на глазах у изумленных пассажиров. Снимок – какой-то дед требует у меня «Игру в классики» Кортасара, потому что он давно ее приметил, просто не покупал. «Дед, – говоришь ему ты, – Дед, но я уже пять дней езжу с этими книгами, и всем было наплевать, пока она их не купила сразу все!» Да, все люди такие, это правда. Придумываем, что дедом был сам Кортасар – старческая деменция, катается туда-сюда, пытается что-то вспомнить: ура, почти вспомнил, но нет. Не нужна тебе, дед, твоя книга, лучше сойди в Фаниполе и разбей садик, дольше пробудешь.
Шестая. Сентябрь. У меня дома ремонт, мы сидим на красиво застеленных газетах и едим винегрет, купленный в гастрономе, серебряной вилочкой из целлофанового пакета.
Седьмая. Октябрь. В сотне метров от моего дома я говорю тебе: «Нет, дальше тебе нельзя, больше никогда нельзя, хватит, и не думай даже, все» и дальше иду одна. «Боже, дай мне знак, – говорю я. – Я ничего не понимаю вообще, что происходит, дай мне хоть какой-нибудь знак, пожалуйста». Я останавливаюсь и смотрю в звездное небо. Мне в рот падает капля воды. Я закрываю рот, и начинается чудовищный ливень. «Спасибо, офигенный знак, – шиплю я, пока мчусь к подъезду. – А можно инструкцию к знаку? Как его толковать, этот твой дурацкий знак? Или это просто, блин, знак как таковой? Какого хрена все так прямолинейно?» Дома я выжимаю свитер над раковиной и смотрю, не сложатся ли подтеки с грязной свитеровой жижи в раз-словечко, два-словечко-будет-песенка. «Надо чаще устраивать стирку или вообще генеральную уборку, дорогуша», – трактую я этот знак, швыряя свитер на пол и раздумывая о том, что грязнее: пол, свитер, ситуация.
Восьмая. Февраль. На этой фотографии нет ни тебя, ни меня. Мы договорились встретиться в холле биофака, потому что там пусто, уютно и чучело лося. Мы ждем друг друга с 17.30 до 18.30. Телефонов у нас нет, потому что тогда мы, кажется, жили в эпоху, когда не было телефонов. Мы сидим на одном и том же диванчике, но так и не встречаемся. Выходя из холла биофака, мы сталкиваемся плечами в дверях – ты чо, как такое возможно? Ты ждал? Да это я ждала. Повторяю, на фотографии холл должен быть пуст. Разве что лось. Но лучше, чтобы он не вошел в кадр, а то получится, как будто это фото лося, а нужно фото пустоты. С нами потом еще пару раз случались такие пространственные штуки, но эта была самой показательной. Вообще я больше не ходила на этот чертов биофак, там и правда присутствуют искажения пространства, лучше не испытывать судьбу.
Девятая. Март. Я прихожу к тебе домой и кружу по комнате, как ненормальная – мне не на что сесть и даже негде встать, не говоря уже о том, что не на чем остановить взгляд – всюду лежат чужие вещи. Наконец я сажусь у батареи – там нет даже следа чужих вещей, поэтому комфортно, но очень пыльно. Заглядывая под батарею, я замечаю там множество мертвых божьих коровок, но они тоже не похожи на чужие вещи, скорей наоборот – такое впечатление, что это наши вещи.
Десятая. Больше никаких наших вещей у нас не было. Кроме разве что этой фотографии. Это фотокопия старой фотографии группы Led Zeppelin, которую мы раскрашивали вручную на информатике, декабрь.
Ноября и мая здесь нет, потому что ноябрь только что закончился, а фотографии мая я бы хотела расфотографировать обратно, что уж.
Эти десять кадров я бы и сохранила, чтобы забыть все остальное.
Память кого угодно похожа на что угодно, так вот – моя память похожа на подтаявшую апрельскую лодку, в которую все время набирается вода, и если ее не вычерпывать, в лодке рано или поздно не останется ничего, кроме воды, а если ее вычерпывать, можно очень быстро забыть, ради чего ты этим занимаешься. Чтобы не утонуть? Чтобы лодка не пошла ко дну? Самовнимание, самомнение, простой рефлекс, мышечный инстинкт, рукой туда-сюда, а, что? Память? Вам куда, молодой человек, на этот берег, на тот?
Чтобы не раскачивать эту лодку, я придумала, что буду писать письма не тебе, а другим людям – почему нет? Они будут длинные, литературные, как ты и боялся. Но я сдерживаю свое обещание – это письма не тебе, тебе никаких писем я не пишу. Если не веришь, посмотри внимательно на эти десять фотографий – увидишь себя от силы на двух-трех, остальные – какие-то другие люди, правда ведь? Особенно вот этот, толстый. Или этот лысый. Я придумала как минимум четырех разных адресатов, в общем-то даже не важно, существуют ли они на самом деле, или существовали когда-либо. Они мне одинаково дороги, и даже если собрать их всех в единый образ, тебя не получится, поэтому я имею полное право писать им письма практически каждый день.
Чтобы все было совсем справедливо, мне пришлось не без усилий воспитать в себе нескольких авторов, строчащих эти огромные письма, – таким образом, если даже твой почтовый ящик уже забит, меня это не касается: пишу не я и не тебе.
Мне кажется, я держу свое обещание. Это меня так здорово мотивирует – осознание, что я умею держать обещания, – что мне кажется, что этими письмами я рано или поздно смогу вымостить себе светлую и прекрасную дорожку в рай, или в новую прекрасную жизнь, или к тебе, или от тебя, что взаимозаменимо. Вот и еще одна ступенька, и я уже вижу – брезжит какой-то свет, ура – а что видишь ты, а ты не дочитал, прости, это не тебе. Метеорит.