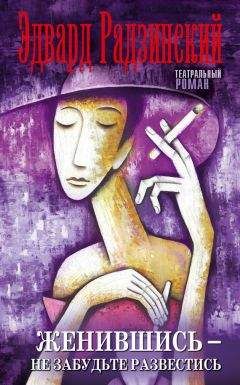Но судьба всегда благоприятствует влюбленным: несколько анекдотов, несколько решительных вылазок (с успехом отбитых противником), атмосфера общежития, бесконечные рассказы подруг о своих амурах и, наконец, отсутствие вологодской матери – и вот уже пошли свидания! И вот уже бешеная борьба то в пустой комнате общежития, то на траве лесопарка Сокольники и т. д., и т. п.! И вот уже знакомая беседа:
– Ну, поклянись: ничего не будет…
– А ты сними только это…
Ну, далее все известно! И вот студент уже вступил в обладание прекрасными вологодскими ногами.
Но ничто не длится вечно для Дон Жуана! Новая зарубка на никелированной кровати в общежитии уже была сделана (так он наивно считал свои победы). И тотчас вологодские ноги перестали фосфоресцировать. Толстые ноги – и все.
Потому что – появились две груди, две могучие груди студентки из города Костромы. Что делать: только на периферии и осталось здоровье. Только там, на прекрасной природе, возрастает обилие.
А далее идет история с новой пассией (см. историю с предыдущей). Надо сказать, что костромская любовь несколько оживила и его чувство к вологдчанке. И теперь наш студент начал «полеживать» с обеими великолепными провинциалками. Естественно, долго это продолжаться не могло, тем более что обе жили в одном общежитии. И однажды во время ночных бесед наши героини выяснили ситуацию. Провинциальность не позволила им насладиться выгодами своего положения (они не читали «Декамерона», что делать!). Более того, справедливому гневу юных (и, добавлю, чистых) дев не было предела.
Прекрасноногая вологдчанка простодушно предложила инсценировать изнасилование и засадить обидчика в тюрьму. Но прекрасногрудая костромичка была похитрее…
Короче, однажды наш студент решил провести очередную ночь рядом с прекрасной грудью костромички. А дело происходило, как всегда, в квартире ее подруги.
После того как страсть была удовлетворена и наш Дон Жуан отдыхал от любви, он внезапно почувствовал на лице платок с эфиром. Точнее, ему грубо сунули платок из темноты.
Когда он очнулся, в комнате никого не было. Горела лампа, а на столе лежала записка от костромской Юдифи: «Можешь оставаться здесь до утра. Уходя, захлопни дверь. С приветом». И шли подписи… обеих провинциалок.
Только когда студент спустил ноги с кровати – он почувствовал острую боль. От этой боли и ужаса он покрылся потом. Затем медленно опустил руку – и в темноте нащупал свежий шов.
Провинциалки всегда хорошо учатся, и та, из Костромы, готовилась стать отличным хирургом. Операция была сделана безукоризненно – его кастрировали по высшему классу.
Может ли пожарник быть без шланга, ключник без ключей?
Я привел только первые примеры, пришедшие в голову. Может ли Дон Жуан жить без…?
Он висел в ванной, лицом к зеркалу, прикусив язык. Он был из Одессы, из веселого южного города, где ценят шутку. Видимо, он понял весь комизм ситуации – и напоследок успел показать себе в зеркале – язык!
Однажды ночью, в конце пятидесятых, мы здорово выпили с другом. Естественно, надо было добавить, но рестораны в этот час уже закрыты. Куда ехать? Ясное дело, на вокзал к таксистам: у них всегда водка. И вот тогда-то мой друг сказал:
– На хрена нам на вокзал? Айда к Вальке! (Имена я, естественно, заменяю.)
Приехали в какой-то переулок, входим в какую-то квартиру. Вижу: идет типичная пирушка торговых работников. В центре – красивая дебелая бабища, справа от нее – аккордеонист, слева – юркая, худая, некрасивая, большеглазая. Но через пять минут я понял: некрасивая да большеглазая держит стол, она здесь главная.
Это и была Валька.
Ну, сначала поддали мы с другом, а потом я уже совсем осмотрелся, огляделся. Гляжу: на стенах развешана куча удивительнейших фотографий. На одной – сам Вождь и Учитель. Причем без кителя, в одной рубашке, с детьми, в самой неофициальной обстановке. На другой – опять Вождь и Учитель! И тоже чуть ли не в пижаме! Нигде никогда я не видел таких его фотографий.
Под утро выметаемся мы с другом ситным на улицу, а Галька, пардон, Валька… в дверях машет и орет моему корешу:
– Вот этого всегда приводи!
То есть меня: значит, понравился я ей.
Идем в весеннем рассвете. Спрашиваю корешка:
– Кто такая будет эта Валька?
А он только смеется:
– Это и есть главная Васькина женщина.
Все мы тогда знали, кто такой Васька.
Отец и Учитель у нас был один, и сын Васька у Отца и Учителя тоже был один.
Короче, узнаю я Валькин телефон у друга моего – и на следующий же день к Вальке снова. И опять – веселье, аккордеон. Ну-с, далее пропускаю…
Но одну историю, которую она мне тогда рассказала (правда или нет, уж не знаю – дело пьяное), короче, вот эту самую историю, как я слыхал, так и перескажу.
Значит, Вальке слово.
«Васька любил меня одну. Все эти его актерки, пловчихи, певицы – тьфу! (Она сказала другое слово.) И что б ни случилось, с кем бы он ни был – все равно ко мне возвращался. Стучит посереди ночи:
– Открой! Открой! Арестую! Открой! Убью! Открой, миленькая лапочка! Открой, сука!
И ведь открывала! Кто был – тех выгоняла, а ему открывала, черту рыжему.
И вот как-то, году в сорок пятом, как раз кончалась война, – стук в дверь. Открываю: стоит летчик знакомый – назовем его Иван Петров. Красавец, герой, полковник. Говорит:
– Велено доставить тебя в Германию к хозяину.
Я говорю:
– Когда собираться?
Он:
– Сейчас же.
И ведь вся заволновалась! Ах он, сволочь рыжая, а все ж таки муж. Потому что только его я мужем своим и считала. Но гляжу я на Петрова, а Петров – высокий, ладный, в орденах, и все при нем. Я и говорю Петрову:
– Хрен с ним, пусть подождет рыжий, мы ведь с тобой, Петров, сколько не виделись?
– Да ведь нельзя: хозяин!
– Ничего, придумаешь что-нибудь.
И провели мы с Петровым вот такую ночь!
Утром собираюсь – и летим мы к рыжему. Подлетаем, кажется, к Кенигсбергу. И говорю я Петрову:
– Вань, тут Жорик Семенов служит…
– Точно так, эскадрилья теперь у него.
– Вань, – говорю я, – тыщу лет я не видела Жорика. Христом-Богом прошу, посади самолет!
– Да как же?..
– А ты придумай что-нибудь, а, Вань? Ведь Жорик – свой парень.
И Ванька тоже был свой парень. Связались мы по рации, сели у Жорика. Ну, провела я у Жорика вот такую ночь!
А на прощание Жорик и спрашивает:
– Ты у своего часто бываешь?
– Ой, часто.
– Когда тебя твой назад отправляет, кто тебя сопровождает?
Я говорю:
– Звено.
– Ясно, – говорит Жорик. – Тогда я даю тебе два звена.
Поднялись мы в воздух – два звена самолетов меня сопровождают. Подлетаем к Ваське. Рыжий мой, пьяный мой, выскочил из землянки:
– Что такое? Два звена?!
Ну, был он, как всегда: пьяная рожа! И оттого затрясся от страха: вдруг отец пожаловал?
Весь личный состав был выстроен на летном поле, когда мы приземлились. Ну, я открываю дверь, смотрю: стоит моя сволочь! Пьяница моя, а все ж таки – муж! Хоть плохонький, да свой!
Выхожу я на трап, а там внизу уже команду кричат:
– Смирна-а-а! Направо – равняйсь!
Тут Васька видит меня да как заорет радостно:
– Отставить построение! Это ж моя б… приехала!»
Итак, жил-был художник Н. Не просто художник, а назовем его: ведущий художник Н., даже не так: руководящий художник Н.
Прославился он еще в тридцатые годы портретами славных стахановцев, изображениями наших великих строек.
Называл он себя тогда певцом рабочего класса, потомственным пролетарием, хотя злые языки утверждали, что происходил он из древнего дворянского рода и т. д., и т. п. На ушко даже рассказывали, что в двадцатых годах была у него некая тетка, чуть ли не бывшая фрейлина двора. Каковая воспитывала, одевала и обувала будущего пролетария. И рассказы сей тетки были исполнены интереснейших подробностей об амурных похождениях. Причем все с великими князьями, никак не меньше. К старости тетка пристрастилась к горячительным напиткам – и вот тогда язык ее окончательно развязался, и яркие подробности интимного быта кровавой династии вставали перед слушателями.
А к тому времени племянник уже сделал первые успехи на поприще. Но утихомирить тетку не было никакой возможности. И чтобы дело не приняло серьезного оборота, будущему певцу ударных строек пришлось принять меры.
Однажды к теткиному дому подкатила санитарная машина. Пьяненькую старушку вывели под белы руки и повезли в тот единственный дом, где даже в те годы можно было беспрепятственно рассказывать о своих амурах хоть с Александром Македонским.
В машине тетка вопила, проклинала племянника, доказывала, что она не сумасшедшая, призывала в свидетели многочисленных великих князей и Григория Распутина. А наш герой сидел рядом с психиатром и только молча и печально качал головой. Кстати, эта привычка молча, значительно, с некой печальной грустью покачивать головой осталась у него на всю жизнь. И в сложные годы, когда часто требовалось говорить «да» или «нет», он только грустно и значительно покачивал головой.