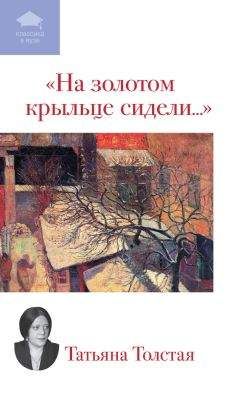– Еще один! – со смехом крикнул кто-то, по фамилии, как выяснилось тут же, Поцелуев. – Штрафную! – И торт с отпечатком, и цветы отобрали у Симеонова, и втиснули его за стол, заставив выпить за здоровье Веры Васильевны, здоровье, которого, как он убеждался с неприязнью, ей просто некуда было девать. Симеонов сидел, машинально улыбался, кивал головой, цеплял вилкой соленый помидор, смотрел, как и все, на Веру Васильевну, выслушивал ее громкие шутки – жизнь его была раздавлена, переехана пополам; сам дурак, теперь ничего не вернешь, даже если бежать; волшебную диву умыкнули горынычи, да она сама с удовольствием дала себя умыкнуть, наплевала на обещанного судьбой прекрасного, грустного, лысоватого принца, не пожелала расслышать его шагов в шуме дождя и вое ветра за осенними стеклами, не пожелала спать, уколотая волшебным веретеном, заколдованная на сто лет, окружила себя смертными, съедобными людьми, приблизила к себе страшного этого Поцелуева – особо, интимно приближенного самим звучанием его фамилии, – и Симеонов топтал серые высокие дома на реке Оккервиль, крушил мосты с башенками и швырял цепи, засыпал мусором светлые серые воды, но река вновь пробивала себе русло, а дома упрямо вставали из развалин, и по несокрушимым мостам скакали экипажи, запряженные парой гнедых.
– Курить есть? – спросил Поцелуев. – Я бросил, так с собой не ношу. – И обчистил Симеонова на полпачки. – Вы кто? Поклонник-любитель? Это хорошо. Квартира своя? Ванна есть? Гут. А то тут общая только. Будете возить ее к себе мыться. Она мыться любит. По первым числам собираемся, записи слушаем. У вас что есть? «Темно-зеленый изумруд» есть? Жаль. Который год ищем, прямо несчастье какое-то. Ну нигде буквально. А эти ваши широко тиражировались, это неинтересно. Вы «Изумруд» ищите. У вас связей нет колбасы копченой доставать? Нет, ей вредно, это я так… себе. Вы цветов помельче принести не могли, что ли? Я вот розы принес, вот с мой кулак буквально. – Поцелуев близко показал волосатый кулак. – Вы не журналист, нет? Передачку бы про нее по радио, все просится Верунчик-то наш. У, морда. Голосина до сих пор как у дьякона. Дайте ваш адрес запишу. – И, придавив Симеонова большой рукой к стулу, – сидите, сидите, не провожайте, – Поцелуев выбрался и ушел, прихватив с собой симеоновский тортик с дактилоскопической отметиной.
Чужие люди вмиг населили туманные оккервильские берега, тащили свой пахнущий давнишним жильем скарб – кастрюльки и матрасы, ведра и рыжих котов, на гранитной набережной было не протиснуться, тут и пели уже свое, выметали мусор на уложенную Симеоновым брусчатку, рожали, размножались, ходили друг к другу в гости, толстая чернобровая старуха толкнула, уронила бледную тень с покатыми плечами, наступила, раздавив, на шляпку с вуалькой, хрустнуло под ногами, покатились в разные стороны круглые старинные каблуки, Вера Васильевна крикнула через стол: «Грибков передайте!» – и Симеонов передал, и она поела грибков.
Он смотрел, как шевелится ее большой нос и усы под носом, как переводит она с лица на лицо большие, черные, схваченные старческой мутью глаза, тут кто-то включил магнитофон, и поплыл ее серебряный голос, набирая силу, – ничего, ничего, – думал Симеонов. Сейчас доберусь до дому, ничего. Вера Васильевна умерла, давным-давно умерла, убита, расчленена и съедена этой старухой, и косточки уже обсосаны, я справил бы поминки, но Поцелуев унес мой торт, ничего, вот хризантемы на могилу, сухие, больные, мертвые цветы, очень к месту, я почтил память покойной, можно встать и уйти.
У дверей симеоновской квартиры маялась Тамара – родная! – она подхватила его, внесла, умыла, раздела и накормила горячим. Он пообещал Тамаре жениться, но под утро, во сне, пришла Вера Васильевна, плюнула ему в лицо, обозвала и ушла по сырой набережной в ночь, покачиваясь на выдуманных черных каблуках. А с утра в дверь трезвонил и стучал Поцелуев, пришедший осматривать ванную, готовить на вечер. И вечером он привез Веру Васильевну к Симеонову помыться, курил симеоновские папиросы, налегал на бутерброды, говорил: «Да-а-а… Верунчик – это сила! Сколько мужиков в свое время ухойдакала – это ж боже мой!» А Симеонов против воли прислушивался, как кряхтит и колышется в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны, как с хлюпом и чмоканьем отстает ее нежный, тучный, налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода, как шлепают по полу босые ноги и как, наконец, откинув крючок, выходит в халате красная, распаренная Вера Васильевна: «Фу-ух. Хорошо». Поцелуев торопился с чаем, а Симеонов, заторможенный, улыбающийся, шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия. Поцелуев заводил граммофон, слышен был дивный, нарастающий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром, над распаренным телом Верунчика, пьющего чай с блюдечка, над согнувшимся в своем пожизненном послушании Симеоновым, над теплой, кухонной Тамарой, над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над собирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеют делать только реки.
У Петерса с детства были плоские ступни и по-женски просторный живот. Покойная бабушка, любя его и таким, обучала его хорошим манерам – все-все-все прожевывать, заправлять салфетку за воротник, помалкивать, когда говорят старшие. Так что он всегда нравился бабушкиным подружкам. Когда она брала его с собой в гости, можно было спокойно дать ему в руки ценную книжку с картинками – не порвет, и за столом он никогда не выщипывал бахрому из скатерти и не крошил печеньем – чудный был мальчик. Нравилось и то, как он входил – степенно одергивал бархатную курточку, поправлял бант или кружевной индюшачий галстучек, пожелтевший не меньше бабушкиных щек, и, шаркнув толстой ножкой, представлялся старухам: «Петер-с!» Он замечал, что это смешило и умиляло.
– Ах, Петруша, детка! Вы что его, Петером зовете?
– Да… так… Мы сейчас просто учим его немецкому, – небрежничала бабушка. И, отражаясь в тусклых зеркалах, Петерс чинно шел по коридору, мимо старых сундуков, мимо старых запахов, в комнаты, где по углам сидели тряпичные куклы, где на столе под зеленым колпаком спал зеленый сыр и ванилью веяло домашнее печенье. Пока хозяйка раскладывала маленькие, съеденные с одного боку серебряные ложечки, Петерс бродил по комнате, рассматривал кукол на комоде, портрет строгого, оскорбленного старика с усами как длинная спица, виньетки на обоях, или подходил к окну и глядел сквозь заросли алоэ туда, на солнечный мороз, где летали сизые голуби и съезжали с накатанных горок румяные дети. Гулять его не пускали.
Глупое прозвище – Петерс – так к нему на всю жизнь и прилипло.
Мамаша Петерса – бабушкина дочь – сбежала в теплые края с негодяем, папаша проводил время с женщинами легкого поведения и сыном не интересовался; слушая разговоры взрослых, Петерс представлял себе негодяя – негром под банановой пальмой, папашиных женщин – голубыми и воздушными, легкими, как весенние облачка, но, хорошо воспитанный бабушкой, помалкивал. Кроме бабушки, у него еще был дедушка; сначала он тихо лежал в углу на кресле, молчал и следил за Петерсом блестящими стеклянными глазами, потом его положили в столовой на стол, подержали так дня два и куда-то унесли. В этот день ели рисовую кашу.
Бабушка обещала Петерсу, что если он будет вести себя хорошо, то, когда вырастет, жить он будет замечательно. Петерс помалкивал. Вечером, взяв в постель плюшевого зайца, он рассказывал ему про свою будущую жизнь – как он будет гулять когда захочет, дружить со всеми детьми, как приедут к нему в гости мама с негодяем и привезут сладких фруктов, как папины легкие женщины будут летать с ним по воздуху наяву, словно во сне. Заяц верил.
Бабушка кое-как учила Петерса немецкому языку. Они играли в старинную игру «Черный Петер» – вытягивали друг у друга карты с картинками, складывали парами – гусь и гусыня, петух и курица, собаки с надменными мордами. Только коту, Черному Петеру, не доставалось пары, он всегда был один – мрачный, нахохлившийся, и тот, кто к концу игры вытягивал Черного Петера, проигрывал и сидел как дурак.
Еще были крашеные открытки с надписями: Висбаден, Карлсруэ, были прозрачные вставочки без перьев, но с окошечком: если поглядеть в окошечко, увидишь кого-то далекого, маленького, конного. Еще пели с бабушкой: «О танненбаум, о танненбаум!» Все это был немецкий язык.
Когда Петерсу исполнилось шесть лет, бабушка взяла его в гости на елку. Дети там были проверенные, без заразы. Петерс шел по снегу так быстро, как мог, бабушка за ним еле поспевала. Горло у него было туго стянуто белым шарфом, глаза блестели в темноте, как у кота. Он спешил дружить. Начиналась прекрасная жизнь. В большой жаркой квартире пахло хвоей, сверкали игрушки и звезды, бегали чужие мамы с пирогами и кренделями, визжали и носились быстрые ловкие дети. Петерс встал посреди комнаты и ждал, когда начнут дружить. «Догоняй, пузан!» – крикнули ему. Петерс побежал куда-то наугад и остановился. На него налетели, он упал и поднялся, как ванька-встанька. Жесткие взрослые руки отодвинули его к стене. Там он простоял до чая.