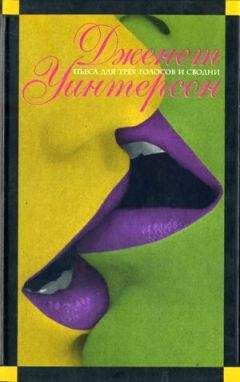И сейчас – на лету?
* * *
Мимо однообразного постоянства стен, учебы, посуды, забот о топке и хлебе. Мимо почерневших от дождя и снега заборов и разваливающихся от дряхлости дымоходов. Мимо изношенных хлюпающих ботинок, намокших ног, простуды, маминой встревоженной ладони на лбу, бабушкиных компрессов, тяжело пахнущих смесью мыла и спирта, мимо скудного зимнего солнца и ослепительно-сухого, летнего – к медной ручке дверей, малейшему движению которой подчиняется гигантский корабль, вырываясь из тяжко присевшего на корточки, упорно врастающего в землю города; к тягуче обволакивающему гулу огромного колокола в церкви за два квартала, в котором долгое напоминание и предупреждение: через всю жизнь; к мечущемуся, как черная лохматая птица, звонарю, мелькающему сквозь решетки в высоте; к позеленевшему от времени подсвечнику, оставшемуся на чердаке от прадеда; к огрызку стеариновой свечи, к языку пламени, вспыхивающему в сумраке чердака – и в пламени этом – все средневековье, вырывающееся из затхлой, пахнущей пылью и гарью чердачной мглы, вязанки тесовых дощечек, покрывающих крышу, как тома фолиантов; и в пламени этом – Жюль Верн и Стивенсон, и свистит за слуховым окном ветер в снастях – в проводах и стропилах, а небо уходит за край крыши, и земли не видно.
Все мимо и мимо, и дни крепятся и тянутся от медной ручки к гулу колокола. От колокола к свече, освещающей мглу, как подземные своды, и пламя которой иногда видишь и среди дня, и на нудном уроке. А особенно при скучном разговоре у родственников, когда ты, примерный мальчик, весь внимание и умиление. А там, в тебе – колеблется язычок свечи, и ты идешь, идешь, сквозь годы, к чему-то главному, самому главному, не по возрасту серьезному, и в гуле меди – напоминание и предупреждение об этом главном, которое смутно, но тем более величественно. И так – через годы детства – в юность, как будто готовишься к побегу из недвижности, быта, привычек, замшелости – как роешь подкоп из тюремной камеры, – и колеблется в подкопе пламя свечи.
А время, как дым, уползает в щель между стропилами. Эту щель я открыл однажды, когда мне было семь лет. Она совсем узка, но если приникнуть вплотную – в размытом свете колышутся крыши домов. А дальше – клубящееся синее, но это – одна видимость, а настоящее – когда заходит солнце, заходит прямо против щели и затопляет ее таким яростным пламенем, что щель словно расширяется на глазах. И весь чердак начинает дрожать неверным и тревожным оранжевым светом, как бывает при вспышке молнии, но это тихо и долго, и медленно угасает, и потому более тревожно. После молнии ждешь грома, а тут не знаешь, что ждет тебя среди слабо мерцающих стропил, балок и дымохода, похожего на диковинное неуклюжее животное.
Мне восьмой год. Я знаю несколько букв. Среди них – латинскую букву «К». Она мне по душе, потому что напоминает силуэт корабля, ставшего на попа. На балке, рядом с щелью, ножом, тайком вынесенным из кухни, высунув язык, вырезаю букву «К», похожую на русскую «С», корабль, который не тонет.
Я сижу у щели, куда уползает время, которого не видно, и только к вечеру оно вспыхивает: напоминание и предупреждение. Я сижу у щели, и мне уже двенадцатый, и в руках у меня настоящий артиллерийский бинокль с медным корпусом и черной зернистой кожей. К этому биноклю тянулась медленная дорога, с одного поезда на другой, через опаленные сухим солнцем дни июля сорок первого, которые в любой миг могли наполниться суетливыми ударами в рельс, сердце сжимало страхом, начинался грохот, свист бомб, крики и стоны. Дорога шла через леса и мирно колосящиеся поля, шла под солнцем, которое спокойно сверкало в водах, влекущихся под мостами вдаль, но везде и во всем было одно – война. А нас было трое – я, мама и бабушка. И как не норовило нас разъединить, разорвать, разбросать, мы цепко, судорожно держались друг за Друга и за свой скудный скарб, пока не очутились в глуши маленького села между ложбин и холмов Поволжья. И там все годы войны мы только и думали о том, чем топить и чего поесть. И там, выйдя на крыльцо, я внезапно увидел в ослепительно-сухом, почти гудящем от солнца дне, как мама опускается посреди двора, как сотрясается ее ослабевшее и расплывшееся по земле тело. Так я узнал, что погиб папа – а вокруг стояли женщины из других домов. И старушка, наша соседка, которой я часто рубил дрова, когда я бросился к маме, пытаясь ее поднять, взяла меня за плечо и сказала: «Оставь, сынок, землица, она добрая, всех успокоит».
* * *
Через село шли войска на Сталинград, останавливались на ночевку. Солдаты, молоденькие, стриженные, крепкие, славно пахнущие, поймали меня во дворе, прижали кувшин ко рту, а в нем – сладкая вода из-под меда – надулся как лягушка.
В доме нашем ночевал старший лейтенант, утром проснулся – весь горит, бредит. Врач определил: мышиный тиф. Ушли войска, а он остался. Бабушка и мама выходили его. Когда прощался, всех расцеловал. Плакали – каждый о своем. Подарил мне бинокль и три книги – «Тайну двух океанов» Григория Адамова, «Сквозь дым костров» Валерия Язвицкого, и совсем редкую, пожелтевшую, с ятями и твердыми знаками, старую – «Илиаду» Гомера. Вот они, рядом со мной, лежат стопкой в ящичке под стропилами, а я сижу у щели, и страшно мне и непонятно, как же: четыре года дымом утянуло в щель, погиб мой папа и многие из тех стриженых ребят, быть может, и старший лейтенант. А буква, коряво вырезанная мной, ни чуточки не изменилась, почернела, и только. И в щели также яростным пламенем тихо и медленно угасает время, и в этом – напоминание и предупреждение.
А мне двенадцатый, и я запоем читаю «Илиаду», многого не понимаю, но меня, как оранжевое беззвучное пламя в щели, тяжело и непонятно волнуют эти длинные грузные строки, ползущие по желтой бумаге, сплошь просмолённые ятями и твердыми знаками, как днища кораблей, которых уймища движется к Трое. И я с упоением перекатываю, как камешки во рту, имена земель и градов – Аргос, Коринф, Платея, Микены, Пилос. И все они выстраиваются и соединяются в нечто солнечно-влажное, гомеровское, пиршественно-счастливое, несмотря на кровь, хруст суставов и звон доспехов. Слово «Элион» перекликается со словом Элиста, городом, из которого тот самый старший лейтенант Пантелей Иванович Перминов, сделавший на первых листах книг надпись «Элиста.39. П.И. Перминов». Но дальше, дальше – как продолжение, всплывают, выстраиваются грады и веси, узловые станции и станицы. Раздельная, Кучурганы, Знаменка, Миллерово, Серебряково, Ясиноватая. И это должно соединиться в нечто нежно и снежно-серебряное, милое, ясенево-тополиное, в прозрачный пух, в серебро солнца. Но соединяется в рваный остов горящего под насыпью поезда, в прогорклую гарь, заволакивающую серебро и ясень, такую плотную, что день подобен негативу, где белое – черное, а черное поседело, и не тополиный плавает в воздухе пух, а из перин и подушек, разбросанных вокруг горящего товарняка. Погибших не видно, их уже убрали. Потому безмолвно повисший в горелом воздухе пух еще страшней. И всё это становится частью «Илиады», она свободно умещает разбухающую столетиями историю, стоит на всех извилистых путях моей памяти, по которым берут разбег воспоминания, неизвестно где переходя в выдумку, стоит на всех путях – как мельком увиденная на беженских дорогах и врезавшаяся в память церквушка на пригорке у леса, словно макаронины втягивающая в себя колеи нескольких дорог. И втягивает «Илиада» в свои бесконечные строки и серебряные стержни ясеневых дней, на глазах превращающиеся в обугленные стержни войны, и реку, которую мы переходим через понтонный мост, и, кажется, вода хлюпает под ногами. И я со страхом стискиваю мамину руку, а вокруг все с испугом и надеждой повторяют: «Дон, Дон, Дон…», и это звучит в моих ушах, как звук колокола в детстве, вязкие раскаты меди – напоминание и предупреждение.
Медь, любой предмет из нее – с раннего детства для меня мгновенная возможность для побега.
Я совершил нехороший поступок: подстриг кошке усы. Вообще-то я мечтал к кончикам усов поднести горящую спичку, чтобы увидеть, как они закручиваются колечками, но боязнь пожара, которую в меня вбивали с того мига, кажется, как я первый раз сказал «мама», пересилила, и я ну только чуточку подстриг их. Я уже получил от мамы пониже спины. Теперь в столовой папа, противник такого способа воспитания, читает мне нотацию. Я стою у дверей, глаза опущены вниз, лицо выражает отчаянную степень раскаяния, но папа не знает, что за спиной я ухватился за медную ручку двери и, значит, давно уже совершил побег, меня уже здесь нет, – я – на капитанском мостике, все матросы с лицами соседских мальчишек подчиняются мне, мы рассекаем волны открытого моря, и на палубе корабля вольно разгуливают кошки, но все с подстриженными усами.
По вечерам, когда мы садимся всей семьей к самовару вокруг стола пить чай, наступает час воспитания. У меня к нему уже приготовлено необходимое выражение лица: не слишком внимательно и не слишком умильно, а, если можно так сказать, уважительная степень сосредоточенности. Едим мед, прихлебываем из блюдечек, говорит папа, говорит мама, а я уже давным-давно в бегах: невидимо для них вращаю ручки медного самовара, шипит пар, свистки, работает машина, в искривленной, сверкающей медью поверхности самовара отражается мое лицо, а за край самовара, который благодаря кривизне уже и земной шар, уходит, постепенно исчезая, мой корабль.