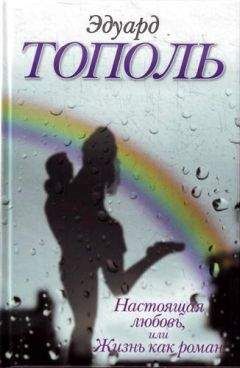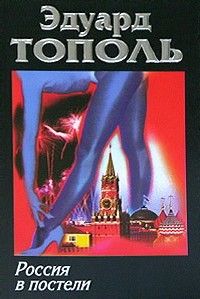– Ответственный Расулов, – записала Сонька. – В каком классе?
– В девятом, – хмуро сообщил Мурат.
Студентки потеряли к ним интерес, стали заниматься своими делами.
А Сонька насмешливо скривила губы:
– Девятый класс, а уже… Распишись. Концерт сегодня в семь часов, а деньги можешь принести завтра. Четыре рубля. Успеешь распространить билеты?
Он расписывался молча, потом спросил:
– А ты в каком ряду сидишь?
Девчонки опять заинтересованно подняли головы.
– Я этого органиста в прошлом году слушала, – сказала Сонька, собираясь встать.
– Тогда не надо. – Мурат положил билеты на стол.
– Что не надо? – удивилась Сонька.
– Не надо билеты.
Сонька насмешливо усмехнулась. Работая, так сказать, «на публику», спросила с улыбкой:
– А если я пойду?
Он взял со стола билеты, оторвал один, положил перед Сонькой, спросил хмуро:
– Точно пойдешь?
– Ну, если ты меня приглашаешь… – улыбнулась Сонька, взяв билет.
Девчонки прыснули.
– Скажи «клянусь матерью», что придешь, – сказал он.
– Дурак! – разозлилась Сонька. – Ты где это говоришь? Это же комитет комсомола!
– Скажи «клянусь матерью», – набычившись, повторил Мурат.
– Ну хорошо, приду, честное комсомольское, – сказала Сонька.
Последние четыре часа до начала концерта прошли как в бреду. Во-первых, сразу из училища Мурат помчался к Гоге Махарадзе. У Гоги, сына стоматолога, было три костюма, и один из них – если перешить пуговицы на пиджаке и заузить брюки в поясе – пришелся Мурату впору. С Гогиным костюмом Мурат помчался домой, велел старшей сестре Бибигюль перешить эти пуговицы и наскоро заузить эти брюки. Пара чистых отцовских рубах были Мурату явно велики, а своей чистой не было. Поэтому он тут же принялся стирать под краном свою единственную белую рубашку. Но холодной водой рубашка не отстирывалась, и мать забрала ее у Мурата, стала стирать по-настоящему – то есть сначала разогрела воду. Поглядывая на часы, Мурат метался по квартире, когда сестра сказала:
– Ты лучше пойди постригись…
Он помчался в парикмахерскую и возвратился домой с такой набриолиненной головой, словно ее покрыли черным лаком.
На их тихой улице имени русско-украинского писателя Гоголя кирщики варили кир – они переехали сюда с нашей Бондарной улицы. Густой дым поднимался над их котлами и плыл по улице Гоголя, растекаясь над крышами и оседая во дворах и квартирах.
Увидев этот переселившийся на их улицу котел, Мурат сорвался с места и бегом помчался домой. А вбежав во двор своего дома, в ужасе остановился – так и есть, мать повесила свежевыстиранную белую сорочку во дворе, но теперь это была уже не белая сорочка, а в черную крапинку. Копоть садилась на нее прямо на глазах…
В овальном зале вестибюля филармонии «светская» публика чинно – парами и по трое – ходила по кругу и вела тихие и якобы интеллигентные разговоры. Женщины, изображая из себя чуть ли не великосветских княгинь, не забывали при этом поглядывать в огромные зеркала на стенах и ревниво осматривали туалеты друг на друге.
Сонька в одиночестве стояла у стены и удивленно смотрела на часы – до начала концерта оставалось несколько минут, но ни Мурата, ни вообще ребят школьного возраста в вестибюле не было. Такое поведение «кавалера» задело бы любое самолюбие, а уж Сонькино…
В доме на улице Гоголя Мурат натянул вторично выстиранную рубашку – от нее еще шел пар, поскольку мать только-только прошлась по ней горячим утюгом. На ходу набросив пиджак, Мурат сказал отцу:
– Отец, рубль дай, рубль…
– Ара, мать тебе дала четыре рубля, – удивленно сказал отец. – Зачем тебе еще?
– Галстук куплю по дороге, ну быстро…
– А возьми у соседа, да! Акрам, дай ему твой галстук! – попросил он через окно у соседа, который пил чай на своей веранде. – Один раз идет в филармонию, прямо весь дом перевернул, честное слово. Гога тоже идет?
– Идет, идет, – нетерпеливо сказал Мурат. – Культпоход у нас.
– Чтобы четыре рубля один билет стоил! – пожаловался отец соседу Акраму, когда тот подал в окно свой галстук. – Эти учителя, наверно, думают – я деньги на машинке печатаю…
…Наконец Мурат выскочил на улицу. В костюме, в белой сорочке, с туго повязанным галстуком и с шевелюрой, набриолиненной до черного сияния. Было без шести минут семь. В кармане у Мурата было четыре рубля, но он не стал ловить такси. Он побежал пешком. От его дома до филармонии было около двух километров – это не так уж много для хорошего спринтера, но, во-первых, Мурат не был спринтером, а во-вторых, на беговой дорожке, то есть на улицах, было полным-полно народу, высыпавшего под вечер подышать прохладой после жаркого дня.
Мурат бежал в филармонию – не бежал, а летел. На ходу огибая прохожих, ввинчивался в компании гуляющих, выныривал чуть ли не из-под колес машин, сворачивал в проходные дворы. Бриолин уже тек по его лицу, пиджак и белая сорочка взмокли.
В филармонии открыли двери в зал, и публика, прекратив кружение по вестибюлю, устремилась на свои места.
Сонька, поглядев на опустевший вестибюль, пожала плечами и вошла в зал.
Она отыскала восьмой ряд и уселась на свое место. По обе стороны от нее было семь свободных мест – справа четыре, а слева три. Это в почти переполненном зале! Вокруг усаживались на свои места зрители, а эти семь мест были свободны, и никто сюда не садился. Соньке было неловко сидеть тут в одиночестве, она нервно вертелась в кресле. Кто-то из студенток училища, сидевших в заднем ряду, подошел к ней, спросил:
– У тебя тут свободно?
– Занято, – нервно сказала Сонька. – Наверно, занято. Не знаю…
Студентка ушла назад, явно обидевшись, потому что весь зал уже уселся, а на сцену выходила ведущая. По деревянной сцене процокали ее каблучки, и в торжественной тишине она объявила звонко, отделяя каждое слово:
– Начинаем концерт органной музыки!..
У входа в филармонию взмокший Мурат выхватил из кармана семь билетов, оторвал один, протянул билетерше, а остальные сунул обратно в карман.
Билетерша посмотрела на него с удивлением – у него был явно зачумленный вид, глаза горели, по лицу и рубахе расползся бриолин. Но билет есть – билетерша пустила его.
Он влетел в зал, когда органист уже раскланивался с аплодирующей публикой и ведущая объявляла первый номер:
– Бах! Прелюдии и фуги!
Мурат пробежал по пустому проходу, нашел восьмой ряд и шмякнулся в кресло рядом с Сонькой.
Сонька посмотрела на него уничижительным взглядом и демонстративно отвернулась.
Он достал из кармана четыре рубля, положил ей на сумочку, которую она держала на коленях.
– Это за билеты, – сказал он.
– А где же?.. – Соня кивнула на пустые места.
Он пожал плечами. Она посмотрела на него, усмехнулась, достала из сумочки полтинник и положила ему на колено.
– Это за мой билет, – сказала она и опять отвернулась к сцене, где органист уже занимал место за клавиатурой органа.
Мурат покосился на Соньку – она сидела выпрямив спину, глядя строго перед собой, и во всем ее облике была отчужденность и неприступность.
Ей казалось, что весь зал смотрит сейчас на них, на эту странную пару в восьмом ряду, сидящую отдельно ото всех и окруженную пустотой свободных кресел.
И от этого Сонька злилась и краснела.
– Туда смотри, – сказала она Мурату сквозь зубы, не повернув головы и только взглядом показывая на сцену.
И тут зазвучал орган. Мурат удивленно оглянулся – величественный рокот органа он слышал впервые в жизни. Маленький органист Гарри Гродберг потерялся на фоне своего гигантского инструмента, и казалось – сам Бах низвергает свои прелюдии и фуги на эту обособленную пару в восьмом ряду.
Сонька умела слушать музыку – все-таки она была музыкантшей. Поэтому вскоре она забыла обо всем, кроме музыки, и сидела уже свободней, а не так, словно аршин проглотила.
А Мурат следил за маленьким органистом и больше удивлялся его сноровке, чем слушал музыку. И еще – поглядывал на Соню.
– Слушай! Ты слушай! – изредка говорила ему Сонька и однажды – во время какого-то очень свирепого баховского извержения звуков – даже взяла его за руку и сжала ее.
Мурат аж окаменел от этого ее прикосновения и взмок, словно его бросило в жар.
О, этот Бах! Он венчал их в эти минуты, он венчал в эти минуты совершенно невероятную пару в восьмом ряду – Соньке было девятнадцать лет, а Мурату еще не было шестнадцати.
Впрочем, ни Мурат, ни Сонька, ни тем более его величество Бах не знали тогда, что это – венчание…
Но может быть, помимо своей воли и знания, Соня и Мурат чувствовали в этой музыке НЕЧТО – ведь Бах есть Бах, как ни крути. Я думаю, что чувствовали, – они сидели какие-то притихшие, а уединенность в своем восьмом ряду еще больше сближала их…
…Теперь по законам кинематографа должна прозвучать пощечина. О, как бы это было по-киношному – после Баха, после первых тонких нитей музыки, связавших моих героев, – выстрелить пощечиной, которую, например, Сонька дала Мурату за то, что он, допустим, решил ее поцеловать!