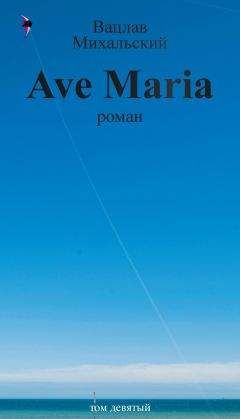Она выпила водку одним махом, но не совсем удачно. Какая-то капелька попала ей не в то горло, Ксения закашлялась, а Александра стала не сильно бить ее кулаком по спине, приговаривая:
– Ты хлебушком, хлебушком занюхай!
Ксения, наконец, справилась с кашлем, занюхала хлебом, тыльной стороной ладони вытерла слезы.
– А я, девчонки, пья-на-я, – засмеялась Анна Карповна. – Водка кончилась, давайте песни петь.
– Давайте, – неуверенно поддержала ее Ксения, – только у меня голос слабый, а слова я почти всех песен знаю.
– Ничего, что голос слабый, ты подхватывай и распоешься, – ободрила ее Александра. – Что будем петь, ма? Русские? Украинские? – чуть помолчав, спросила Александра. Ей было удивительно, что мать в присутствии чужого человека говорит по-русски. «Видно, что-то стронулось в ее душе, надоело прятаться, – с горечью подумала о матери Александра, – хотя Ксения теперь нам не чужая».
Медленно-медленно, как будто снимая многолетнюю усталость, Анна Карповна провела сухими ладонями по своему лицу.
И Александра, и Ксения испуганно насторожились, решив, что у нее закружилась голова.
А Анна Карповна вдруг подняла над головой руки, звучно щелкнула пальцами, как костаньетами, метнула прямо перед собой непередаваемо молодой, светоносный, дерзкий взгляд и запела:
– L’amour est un oiseau rebelle[2].
За стеной в кочегарке перестали греметь лопатами. Видимо, кочегарам тоже захотелось послушать, как поет радио «Хабанеру» из оперы «Кармен». А дождь, казалось, в такт лупил по стеклу в потолке, будто сопровождая голос Анны Карповны, и в ее шестьдесят с лишним лет довольно чистый и молодой. Первую строчку Анна Карповна спела по-французски, а все остальное по-русски. А когда ария закончилась и Анна Карповна смолкла, дождь за окном тоже взял волшебную паузу. И за стеной, примыкающей к кочегарке, было тихо-тихо.
– А я тоже в школе французский учила, – наконец едва слышно вымолвила Ксения.
Потом они пели хором русские и украинские песни, но недолго, и стали готовиться ко сну. Ксению было решено оставить ночевать. Она этому не противилась.
Удобств в «дворницкой» не было, а общественный туалет стоял в темной глубине двора, метрах в пятидесяти. Спасибо, у Александры остался подаренный ей Ираклием Соломоновичем фонарик-«жучок», с ним было веселей скакать под дождем по лужам.
– Мы с тобой в туалет сбегали, как в контратаку. А сколько хлорки! Жуть! Меня прямо тошнит по-настоящему, – на обратном пути сказала Александра.
– От хлорки тошнит – это точно. Меня, правда, нет. От хлорки, – подтвердила Ксения, приплясывая под дождем.
«А вдруг не от хлорки?! – открывая перед гостьей дверь “дворницкой”, подумала Александра, – а вдруг?..» И тут ей вспомнился недавний мамин изучающий взгляд, когда она заговорила за столом о соленых огурчиках.
IIНа людях они говорили между собой по-французски, а один на один, конечно, по-русски. Погода стояла дивная: днем было 22–23 градуса тепла по Цельсию, а ночью 15–17, было безветренно, светило теплое солнышко, а к вечеру опадал легкий колеблющийся туман. Казалось, он и опадал только для того, чтобы украсить вид на почти облетевший сад со старыми корявыми яблонями и абрикосовыми деревьями. Вид этот открывался из распахнутого настежь окна их огромного номера, как сказала хозяйка «королевского». И вся мебель была в номере потемневшая от времени, основательная, а кровать из мореного дуба с резными спинками была просто-таки циклопическая – в случае необходимости на ней без особой тесноты могло бы улечься человек двенадцать.
Мария и Павел оказались единственными постояльцами гостиницы. Когда они ее разыскали, на окованных железом дверях двухэтажного каменного здания стародавней постройки висел огромный амбарный замок. Роскошный лимузин Марии произвел настолько сильное впечатление на владельца соседнего ресторанчика, что он тут же послал мальчишек разыскать хозяйку гостиницы. В ответ на его любезность Мария немедленно заказала ягненка на вертеле и «хорошее красное вино, а лучше очень хорошее».
– Из дорогих? – вкрадчиво спросил ресторатор.
– Из лучших, – дипломатично ответила Мария, давая тем самым понять: она-то знает, что самое дорогое вино не всегда самое лучшее.
– Я вас понял, мадам, разрешите мне действовать на свой вкус?
– Действуйте.
– А как мне представить вас хозяйке гостиницы?
– Граф и графиня Мерзловские, – отвечала Мария, и при этом взглянула на Павла с таким восхитительным лукавством, что он принял ее розыгрыш безоговорочно.
Дородная немолодая хозяйка гостиницы была несказанно рада гостям. Она ловко открыла амбарный замок, распахнула обе створки тяжеленной двери и сказала не без апломба:
– Одна из самых знаменитых гостиниц Франции. В ней останавливался однажды Людовик тринадцатый. К вашим услугам!
Удивительно, но в гостинице не было обычных противных запахов, не было ни плесени, ни затхлости, стоял лишь запах сухого дерева, и Мария различила еще один. Неужели полынь? Да, по углам висели огромные пучки недавно срезанной полыни.
– От нечистой силы, Ваше Высокопревосходительство, – перехватив взгляд Марии, пояснила хозяйка.
– Понятно, – сказала Мария. У них в Николаеве ее няня баба Клава тоже вешала по углам свежесрезанную полынь. – И что, помогает?
– Очень помогает, Ваше Высокопревосходительство, – уверенно тряхнув всеми своими тремя розовыми подбородками, подтвердила хозяйка. – Поживете – сами убедитесь.
– Дай бог, – с улыбкой сказала Мария, – моя нянюшка тоже развешивала полынь в родительском доме.
По общему ощущению было понятно, что помещение часто проветривается и прибирается ежедневно как жилое. Это сразу понравилось Марии. Едва она вошла в здание, ей стало так хорошо, как будто она вступила в мир своего долгожданного счастья.
В первый день они, конечно же, съели вкуснейшего ягненка на вертеле и изрядно выпили очень хорошего и вполне недорогого красного вина. А весь второй день приходили в себя после столь обильной трапезы. До трех часов дня провалялись в постели, похожей на маленькое футбольное поле, потом искупались. В их распоряжении были две ванные комнаты, облицованные розовым и голубоватым мрамором соответственно.
– Так, мальчики в голубую, девочки в розовую, – дурашливо распорядилась Мария. – Обкупнемся, и гулять! А то города так и не увидим, проспим все на свете!
При ближайшем рассмотрении городок оказался весьма затейливым. Двух – или трехэтажные дома внизу были гораздо меньше, чем вверху, как пробка из-под шампанского. Словоохотливые горожане объяснили, что дома устроены таким образом потому, что в XVII–XVIII веках налог на недвижимость исчислялся по площади застройки на земле. Верхние этажи поэтому нависали над нижними. И если улочка была внизу довольно широкая, вполне проезжая, то вверху она становилась все уже и уже. Был в городке даже переулок, который назывался Кошачий. Это потому, что крыши противоположных домов подходили друг к другу так близко, что кошки свободно разгуливали по ним почти на всей территории города, так и прыгали с одной стороны улицы на другую. Сами крыши домов тоже заслуживали отдельного внимания: они были покрыты черепицей из каштанового дерева, которое не гниет под дождем, а только крепнет. Каштановые крыши домов слегка золотились под солнцем, и это было очень красиво.
Наконец, они вышли на центральную площадь к средневековому каменному зданию мэрии, на фронтоне которого были выбиты в камне слова: Unité Indivisibilité de la République – Liberté, égalité, fraternité, ou la mort. – Единство, неделимость Республики – Свобода, Равенство, Братство или – смерть, – перевела Павлу на русский Мария, хотя он и сам свободно говорил по-французски, но читал недостаточно бегло. Сказывалось отсутствие необходимости читать по-французски в США.
– Это лозунг первой французской революции, – с горделивым апломбом пояснил как раз вышедший из мэрии пожилой служащий в строгом черном костюме и черных сатиновых нарукавниках, выдававших в нем человека много пишущего и бережливого. – Только у нас остался этот первоначальный подлинный лозунг. На всю Францию, наверное, только у нас! – Как и все в Труа, служащий мэрии был приветлив с гостями и горд своим маленьким городом.
– Спасибо, – поклонилась ему Мария, – вы очень любите свой город и очень любезны, мсье!
– Пожалуйста. Я думал, вы иностранцы, – услышав исключительно чистый парижский выговор Марии, несколько разочарованно сказал клерк и шмыгнул назад в широко раскрытые двери своего присутствия тереть нарукавниками о стол, не причиняя вреда пиджаку.
– Смотри, как его жизнь отредактировала, – сказал о лозунге Павел, – остались в памяти только: «Свобода, Равенство, Братство», а все лишние словеса растаяли как дым. Кстати, о дыме, что-то дымком попахивает, принюхайся.
– Я давно чую. Это по дворам палую листву жгут, по огородам ботву. Я обожаю этот запах.