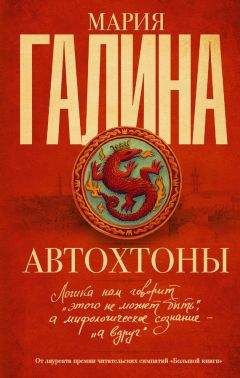– Такая группа. Малоизвестная. Они в двадцать втором ставили тут одноактную оперу. «Смерть Петрония».
– Интересно. – Шпет наклонил голову набок. – Почему я об этом… Хотя, погодите. Двадцать второй? Где-то у меня тут был двадцать второй…
Шпет, кряхтя, поднялся. Кряхтел Шпет так, словно того требовал рисунок роли, – старый поклонник изящных искусств, хранитель и собиратель, к которому обратился за помощью молодой несведущий энтузиаст.
Не какие-нибудь папки с завязочками. Плюш, бархат, литые накладки. И наверняка, наверняка плотные гладкие листы картона цвета кофе с молоком переложены тонкой папиросной бумагой. Он смотрел в сутулую спину Шпета, с энергией терьера роющегося в этой груде старья.
– Вот он, двадцать второй! – Шпет еле удерживал зеленый рытого бархата альбом. – Тогда, да, бурлило все. Гастроли, проезжие звезды! Здесь было много проезжих звезд.
Да, подумал он, перевалочный пункт, последний приют, мягкое подбрюшье Европы. Краткие вспышки света перед наступающим мраком. Лихорадочное цветение перед зимними холодами.
– Искусство – это храм, где священный огонь продолжают бережно хранить в годину потрясений! А вам откуда известно? Про постановку?
Точно. Шпет боялся, что кто-то его объедет на кривой козе.
– Из мемуаров Претора. Он им ставил мизансцены и танцы, там были танцы.
– Претор? – удивился Шпет. – Великий Претор?
– Да, он был тут. Проездом в Варшаву.
– Не может быть, – потрясенно сказал Шпет. – Откуда мемуары? Он ведь давно покинул сей мир.
Шпет мигнул бледными старческими веками. Шпет ничего не знал про мемуары. Такое упущение. И еще Шпет избегал слова «умер». Магия предосторожности.
– Умер, да. В Париже, перед самой войной. Повезло, можно сказать.
Шпет чуть заметно передернул плечами.
– Но глубоким стариком, – утешил он Шпета. – Что до мемуаров… это, видите ли, как получилось… рукопись всплыла на аукционе, лет пять назад. Пока опубликовали, пока оцифровали…
– Пардон?
– Ну, кто-то из правообладателей выложил мемуары в сеть. В Интернет, – пояснил он, встретив непонимающий молочный взгляд Шпета, – и там было про постановку «Смерти Петрония». Очень зло, кстати. Претор им так и не простил.
– Чего не простил? – удивился Шпет.
– Ну, хм… Это была, как теперь говорят, провокация. Перформанс. Они на премьере подсыпали гостям в бокалы с шампанским порошок шпанских мушек – в духе Октавии Ливии. Там не только на сцене непристойности творились. Собственно, премьерой все и ограничилось.
Эти Sa Majeste la Rose Витольда, подумал он, просто робкая пародия на зловещее великолепие того, почти столетней давности, действа.
– Претор, конечно, путает все. И очень себя хвалит. Любимый ученик Петипа подхватил факел из слабеющих рук учителя. Так что я, когда про оргию в театре прочел… партер, ложи… подумал, может, знаете, как у стариков бывает, эротические фантазии.
Зря он это про стариков. Шпет тоже старик. Вдруг у него тоже эротические фантазии?
– Ничего не знаю про оргию, – с сожалением сказал Шпет. – А Претор… я что-то краем уха… Но полагал, ошибка. Разве Претор согласился бы, в любительской постановке?
Шпет по-прежнему держал альбом на весу. Словно раздумывал, стоит ли давать такую замечательную вещь в чужие руки.
А ведь Шпет даже не удосужился изучить как следует свое собрание, подумал он. А вслух сказал:
– Вам, как историку театра, это должно быть интересно. Такое открытие.
– Да, – согласился Шпет. И, поколебавшись, положил альбом на скатерть.
Зеленое на алом переливалось и мерцало, словно на знамени исчезнувшего, но несдавшегося государства.
– Вот. Но это – только посмотреть. Архив, сами понимаете.
Плотные, с мраморным узором, листы были и впрямь переложены тончайшей папиросной бумагой. Переворачивая ее, он видел розовые размытые подушечки собственных пальцев. Мир мелочей, где ты сейчас? Ильф и Петров смеялись над миром маленьких вещей. Глупые, смешные люди. Мир маленьких вещей – это и есть жизнь. Мир больших вещей в конце концов сожрал вас обоих, маленький бы не тронул.
Шпет топтался у него за спиной.
– Вы по-польски читаете? Там большей частью по-польски.
Он осторожно перелистывал страницы, полупрозрачные прослойки пахли пылью и почему-то пудрой. Программки, фотографии-сепия, желтые хрупкие газетные вырезки. Когда он отвернул очередной папиросный слой, под ним обнаружилась бледная высохшая фиалка. Наверное, фиалка.
– Я был в архиве сегодня, – сказал он Шпету. – Смотрел подшивки газет за двадцать второй. И никто ничего. Хотя, казалось бы, такой, как теперь говорят, новостной повод! Такая находка для репортеров! Ведь на премьеру пригласили весь цвет города.
– Сенсация? – Шпет моргнул. – Оргия? Не может быть! Об этом бы кричали все газеты! Все! Вы себе не представляете, какие были тогда репортеры! Такие прощелыги!
Господи, откуда Шпет выкопал это слово?
– Уж они бы не упустили! Вы все-таки ошибаетесь. Или великий Претор ошибается. Великим, знаете, тоже… Но чтобы у нас! Такое… хм, такое! Об этом театре я знаю все.
Все ты врешь, подумал он, а вслух сказал:
– А что, если цензура не пропустила? Все-таки оскорбление общественных нравов. Ну и кто-то из важных персон, из тех, кто был на премьере, мог заткнуть рты… этим прощелыгам.
– Писаки! – С великолепной презрительной интонацией произнес Шпет. – Щелкоперы!
– Именно! Щелкоперы. И прощелыги. Так или иначе – ничего. Дальнейшее – молчание, как говорится. Ну, а потом… Потом всем стало не до светской хроники. О! Вот она.
Шпет, вытянув шею, выглядывал у него из-за плеча.
– Постановщик мизансцен и балетмейстер – Густав Претор.
– Боже мой, – сказал Шпет дрожащим возвышенным голосом. – Боже мой! Но позвольте!
Он протянул альбом Шпету – на обеих ладонях, как дар. Шпет благоговейно принял. Это было красиво.
– У вас потрясающее собрание, сударь мой. Просто потрясающее. Мне повезло, что меня направили к вам.
Пожелтевшая программка была украшена виньетками, преобладали орхидеи роскошно-фаллических и роскошно-вагинальных форм. Имелись также маски комедии и трагедии в римском духе, но с двойными дырчатыми носами, какие обычно рисуют у черепов. Декаданс, такой декаданс.
– Я сфотографирую, разрешите?
– Наверное, – неуверенно сказал Шпет.
Шпет, похоже, боялся, что уплывет сенсация и он, Шпет, опять останется один на один с пыльными плюшевыми альбомами и высохшими цветами. Безуханными, да. Безуханными.
– Вот этим? – Шпет удивился. – Теперь этим фотографируют?
– Иногда. Любители, вроде меня. Вы позволите мне сослаться на вас? На ваше собрание?
Шпет чуть заметно расслабился.
– Претор пишет, – фотографируя, он продолжал говорить, в основном с целью успокоить Шпета равномерно льющейся речью, – что в самой фамилии его постановщики усмотрели Знак. С большой буквы. Сюжет, видите ли, из римской истории, и постановщик – Претор. И, поскольку серьезного гонорара они предложить не могли, они на это особо напирали. Тут все-таки, вы не обижайтесь, провинция. В Москве Мейерхольд, конструктивизм и агитплакат, в Праге Кафка пишет «Замок», а тут все еще любуются цветами зла и во всем знаки усматривают. Ну вот, я и закончил.
– Как теперь все быстро, – вздохнул Шпет, – штучки все эти… новомодные. А раньше, бывало, пока свет поставишь… А они ведь капризные, примы, чуть что не так…
Шпет говорил именно то, что положено говорить хранителю устоев, Шпет не выходил из образа.
Неторопливо выбрать выгодный ракурс, распределить спадающие складки платья и застыть так на века в облаке нищающего фотографического света. Да, они могли себе это позволить. А нынче сеть битком набита фотографиями звезд, застигнутых в самый неподходящий момент. С открытом ртом. Со скошенными глазами. С небритыми ногами.
– Спасибо, – сказал он Шпету, который рассматривал программку, склонив львиную голову набок. Вот на кого похож Шпет – на Лотмана. Наверное, все-таки случайное сходство, вряд ли Шпет подражал Лотману сознательно. – А скажите… кто-то вам знаком? Из обозначенных?
Шпет близоруко щурился, вглядываясь в выцветший готический шрифт.
– Исполнители? Нет… О! Да, вот же! Валевская-Нахмансон. Азия, нубийская рабыня. Кто бы мог подумать? В каком-то любительском спектакле!
Шпет занервничал, положил тонкие бледные пальцы на программку, как бы придерживая ее. Боится, что отберу у него открытие, подумал он. Присвою себе.
– Душевно рад, – сказал он, – что благодаря моей скромной просьбе вам удалось установить сей факт. А кто она такая, прошу прощения? Звезда? Прима?
– Ах, да, – Шпет с облегчением выдохнул, покатые плечи опустились. – Вы же не в курсе…
– Совершенно, – сказал он. – Я, знаете ли, в оперном искусстве некоторым образом профан. Любитель.
– Колоратурное сопрано. Брала верхнее фа третьей октавы, причем с легкостью. Представляете? Венская школа. Звезда, можно сказать. Ее застрелили прямо на сцене, в тридцать девятом. Такая трагедия. Мы ею очень гордимся. Но как она согласилась? Такое… незначительное начинание.